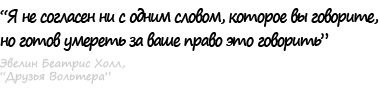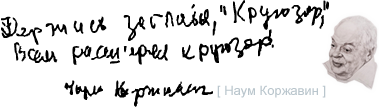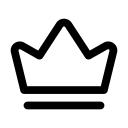С ДОЛГОЛЕТИЕМ!..
К нему ведёт "весёлый континент", Африка
Опубликовано 18 Марта 2011 в 07:00 EDT

 Когда приходят очередные летние или зимние Олимпийские игры, мир пестрит их символикой - пятью разноцветными кольцами: по числу населенных континентов Земли. Меня всегда немного удивляло, что, например, Австралию называют "зеленым континентом", потому что она изобилует разнообразием флоры, Азию - "желтым", потому что там обширные пустынные пространства, Америку - "красным", потому что это их любимый цвет и т.д. Африку традиционно принято называть "черным континентом", потому что ее населяют чернокожие люди. О людях остальных континентов речь почему-то не идет. Я не могу согласиться с этим, потому что Африка невероятно пестра.
Когда приходят очередные летние или зимние Олимпийские игры, мир пестрит их символикой - пятью разноцветными кольцами: по числу населенных континентов Земли. Меня всегда немного удивляло, что, например, Австралию называют "зеленым континентом", потому что она изобилует разнообразием флоры, Азию - "желтым", потому что там обширные пустынные пространства, Америку - "красным", потому что это их любимый цвет и т.д. Африку традиционно принято называть "черным континентом", потому что ее населяют чернокожие люди. О людях остальных континентов речь почему-то не идет. Я не могу согласиться с этим, потому что Африка невероятно пестра.
Я имею в виду не привязанность к цветовой гамме. По количеству и площадям пустынь и саванн Африка не уступает Азии, а джунгли в процентном отношении значительно превосходят австралийские лесные аналоги. Очень трудно обозначить Африку каким-то одним цветом. Но если бы я имел хоть какое-то отношений к выбору символов и названий, я бы внес на рассмотрение предложение переименовать Африку в "веселый континент".
За те шесть лет, которые провел здесь, не было ни одного дня, чтобы я не улыбался, время от времени не смеялся, а иногда и не хохотал до слез. Причем, ничто не происходило специально. Все рождалось само, без всякого моего участия. Моей задачей было только любопытствовать, наблюдать и анализировать.
Я хочу проиллюстрировать сказанное всего несколькими местными историями. Смею заверить, что в них нет ни тени выдумки. Об этом писали газеты и показывало телевидение. Что-то мне известно из рассказов очевидцев, а кое-чему выдалось быть свидетелем самому.
Госпиталь, в котором мне довелось работать в Замбии, назывался "Хиллтоп", потому что был расположен на покатом склоне невысокого холма. Назвать его крупным было бы большим преувеличением. Работы там было не очень много, поэтому мне ничего не оставалось, как разговаривать с людьми и познавать их менталитет.
За первые четыре месяца я волей-неволей приглядывался и к самому госпиталю, и к его сотрудникам. Многое казалось странным, а порой и нелепым, но я относил это к образу жизни, поэтому не высказывался, постоянно помня знаменитую поговорку о "чужом монастыре". Но в конце концов не выдержал.
В последних числах июля 2005 года профессор принял на работу администратора. Я с удивлением узнал в нем м-ра Тембо - человека, который был медконсулом и всего за месяц до того выдавал мне сертификат на право работы в стране. Видимо, отправили на тоскливый заслуженный отдых, но тут подоспела "палочка-выручалочка" - новое предложение, и он, как старый боевой конь, при звуке трубы не удержался и "поднял хвост", радостно заржав в предвкушении битвы. И еще одно, чему я был немало удивлен: зачем профессору понадобилось взваливать этого семидесятилетнего "коня" на свои плечи. Он и два его взрослых сына прекрасно справлялись с работой сами. Да еще при таком ее объеме. Для чего столь небольшому частному госпиталю потребовался администратор?
За работу м-р Тембо принялся суперактивно. Своим поведением он напоминал бильярдный шар, по которому с размаху стукнули кием, заставив метаться по столу от борта к борту. Целый день администратор носился по территории с какими-то бумагами, забегая в разные кабинеты, иногда по нескольку раз, тщательно все записывал, систематизировал. Его кабинет за две-три недели наполнился горой папок с бумагами. Я остро сочувствовал этому пожилому человеку, который, судя по его нескончаемой беготне, вынужден был "разгребать" то, что "Мунконге и сыновья", как я вывел для себя, безнадежно запустили за многие годы.
Я у м-ра Тембо из памяти еще не стерся. Когда приходилось ездить к нему в хлопотах о сертификате, он каждый раз встречал меня с улыбкой, очень оживлялся и неизменно вставал при моем появлении в дверях. Встретив меня в госпитале, м-р Тембо кинулся ко мне и, демонстрируя полный набор все еще крепких зубов, долго тряс мне руку, одновременно искренне интересуясь моими делами, моим здоровьем и здоровьем членов моей семьи. Даже приблизительно не представляю, чем мне удалось вызвать в нем столь трепетное чувство любви.
Однажды он прибежал ко мне в офис, сел рядом со мной за стол и стал меня записывать. Я поначалу удивился - зачем? Папка со всеми моими аккуратно скрепленными документами лежала в железном шкафу у секретарши. Но потом решил, что администратору видней. Если он это делает, значит так нужно.
Через несколько дней он пришел вновь. И снова повторилось то же самое. Опять он все тщательно записал, скрепил и унес. Когда он пришел в третий раз, я осторожно поинтересовался, не потеряли ли они мои документы. Он как-то удивленно на меня посмотрел, что-то пробормотал и приступил к сбору сведений обо мне вновь. Только с четвертого раза я сообразил, что передо мной типичный клинический случай глубокого склероза на грани маразма, лечить который уже не имеет смысла. В медицине он называется "синдром Альцгеймера". Таких больных уже не лечат. Они нуждаются только в круглосуточном наблюдении, чтобы, не дай Бог, чего не натворили. Я понял, почему он, как пчелка, трудился с таким усердием, бегая из кабинета в кабинет и приставая ко всем по многу раз. Он собирал свой "нектар" информации, складывал его в какие-то "соты" своей давно утраченной памяти, но вспомнить - в какие, не мог. И не найдя, в отчаянии кидался снова.
К концу дня он выматывался до предела, но закончить работу был не в состоянии, чувствуя, что что-то не доделал. Госпитальная машина, которая развозила сотрудников по домам, стояла без движения в ожидании его. Жуя собственные губы, все угрюмо наблюдали за его броуновскими передвижениями, но терпеливо ждали. Иногда минут по сорок. Все их намеченные на это время планы летели в тартарары.
Однажды профессор собрал коллектив на собрание, повесткой дня которого был всего один вопрос: почему госпиталь теряет свою популярность и какие усилия надо предпринять, чтобы поднять его престиж хотя бы до прежнего уровня. Высказываний было много. Шеф призвал и меня. Мне было уже что посоветовать, но поскольку столько сказать на английском в то время мне было еще затруднительно, я отказался, сославшись на то, что еще мало знаком со структурой работы частных госпиталей.
Но вернувшись после собрания к себе в офис, я сел и изложил на бумаге все, что накопилось. А потом начертил схему передислокации некоторых кабинетов и минимальные ремонтные работы. Весь мой труд составил 9 листов текста и схем. Скрепив эти листы, я отнес их в приемную профессора и сдал секретарю.
Некоторое время ничего не происходило, но через неделю ко мне в офис пришел м-р Тембо. Войдя, он поздоровался, сел рядом со мной, вытащил из принесенной папки и положил на стол мое письмо, рядом - стопку чистых листов бумаги и, приготовив ручку, стал по пунктам перебирать все, что я написал. Разговор получился примерно в таком духе:
- Вот здесь вы написали, что лабораторию надо переместить вот в это помещение, - показывает на схеме, - так?
- Точно так, - отвечаю.
- Что вы имели ввиду? - спрашивает и внимательно смотрит мне в лицо, пытаясь уловить мой взгляд.
Не менее внимательно глядя на него, отвечаю:
- Я имел ввиду, что лабораторию надо переместить вот в это помещение, - тычу пальцем туда же.
- Понятно, - говорит нараспев, продолжая смотреть мне в глаза, как бы выискивая в самой их глубине истинный смысл написанного. А потом, спохватившись, кидается записывать что-то в свою бумагу. Закончил - и опять спрашивает:
- Вот здесь вы написали, что двор надо покрыть асфальтом, предварительно засыпав все ямы, так?
- Так.
- Что вы имели ввиду?
- Я имел ввиду, что надо закопать ямы по всему двору и покрыть его асфальтом.
- Понятно, - небольшая пауза, и опять записывает.
Вот так, дойдя через два с половиной часа до последнего пункта, он фактически снял точную копию моего письма и, поблагодарив, смылся.
"Ну, - думаю, - пошло дело. Бог с ним, с этим администратором и его склерозом. Глядишь, что-то начнет меняться к лучшему".
Перемены начались не сразу и в каком-то странном направлении. Через месяц профессор, мягко отодвинув свою племянницу, взял на работу матроной очередную свою родственницу - пожилую даму с таким же как у администратора склерозом и давно забытым медицинским образованием. Потом переселил администратора в мой офис, а меня - в его, хотя в моем письме об этом не было даже намека. На этом перемены завершились.
Но в декабре профессор поручил администратору еще раз провести собрание коллектива с той же повесткой дня. Оно очень напоминало наши отчетно-перевыборные собрания из советской жизни за исключением того, что никого никуда не выбирали. Просто подтвердили, кто и кем работает. Опять дали возможность высказаться всем желающим, кто хотел бы улучшить состояние госпиталя. И опять все тщательно записали. Я высказаться отказался принципиально. Несмотря на обилие советов и на этот раз, никаких действий так и не последовало. Только лишь полгода спустя двор начали покрывать свежим слоем... гудрона.
Томимый почти постоянным бездельем, я стал искать себе хоть какое-то занятие. И первое, что сделал, это выпросил у госпитального шофера немного масла для двигателя. Чтобы не ронять себя и госпиталь в целом в глазах посетителей, я налил масло в шприц и ходил с ним по территории, смазывая все петли на жутко скрипевших дверях. Скрип и стук дверей - это то, что меня страшно раздражает всю жизнь. Вообще не выношу лишних и громких звуков. В Замбии порывистый ветер дует практически круглые сутки. Из-за этого плохо подогнанные двери беспрерывно постукивают. Чтобы не слышать этого стука, я как-то вырезал из губчатого поролона несколько полосок и приклеил их к двум дверям на те места, которые издавали слишком уж неприличный стук. Наступила блаженная тишина. Я похвастался профессору своей изобретательностью. Он был немало удивлен и обрадован. Но через день я услышал прежний стук вновь. Оказалось, что дежурная санитарка отскоблила от дверных рам то, что по ее представлениям никак не сочеталось с самим смыслом дверей. Никто и никакими средствами в госпитале с лишними шумами больше не боролся.
Первым, чем занимались сотрудники госпиталя, приходя по утрам на работу, было игрой с погремушкой. В регистратуре стояла пластмассовая емкость, отдаленно напоминавшая то ли цветочную вазу, то ли больших размеров стакан для ручек и карандашей. Она была сантиметров 10 в диаметре и около 15 высотой. А устройство ее напоминало приснопамятную чернильницу-"непроливашку" из нашей древней истории. Горло ее было настолько узким, что просунуть руку не представлялось возможным, пролезали только два пальца. Сколько ни напрягался, я так и не сообразил, каково же истинное предназначение этого "ведерка".
Вот в эту емкость сотрудники и складывали ключи от всех помещений перед тем, как разойтись по домам. К утру вся эта масса железок туго сплеталась своими веревками и брелоками. Тянешь один ключ - ползет вся куча. Пробуешь вытрясать. Грохот на весь госпиталь. С грехом пополам достаешь, наконец. А поскольку на работу все приходят почти одновременно, то пока ты этим занят, за тобой выстраивается очередь и терпеливо ждет. Когда трескотня смолкает совсем, это значит, что все уже на своих местах и можно приступать к работе.
Тогда же, еще в июле, я сказал сотрудникам, что гораздо проще прибить к стене дощечку с гвоздями и развесить на них ключи. Удивительно, но на мои слова никто и никак не отреагировал. Тогда я пошел к плотнику и озадачил его. Но объяснять ему это мне пришлось несколько раз.
- А где взять дощечку? - смотрит на меня с искренним удивлением.
- Выстругать из доски подходящего размера, - отвечаю.
Продолжает смотреть на меня, переваривая информацию. Потом опять спрашивает:
- А где взять гвозди?
- Если у тебя нет, то купить.
Новая пауза для усваивания.
- А кто купит? - очередной вопрос.
- Госпиталь. Если госпиталь откажется, я сам куплю, - продолжаю говорить спокойно.
- А кто к стене прибьет?
"Решил проверить меня на чувство юмора? О'кей, сейчас изобразим".
- Ты, - отвечаю.
На его лбу появляются две вертикальные складки. Но не очень глубокие.
- А к какой стене?
- Я покажу.
Дней через десять разговор повторяется почти слово в слово. С тем же конечным результатом. Месяца через два прихожу к нему в мастерскую. Сколько угодно и подходящих дощечек, и гвоздей.
- Ну? - говорю.
- Ой, я как-то за делами совсем забыл.
"Да, дел у тебя невпроворот, совсем согнулся. По одной доске на одной кровати менять один раз в месяц. Ладно, подождем, когда освободишься", - думаю.
Проходит еще месяца два. Освободиться у этого "трудяги", видимо, не получалось. В ноябре снова прихожу к нему, опять спрашиваю:
- Ну?!
- Я не могу без разрешения администратора, - сокрушенно глядя в пол, разводит руками.
- Что ж ты раньше молчал? Будет тебе разрешение, - твердо обещаю и, повернувшись, решительно направляюсь в офис указанного должностного лица.
Благо тот ко мне относится хорошо, так что никаких проблем возникнуть не должно. Придя и соблюдя все формальности с приветствиями и вопросами о здоровье, объясняю ему проблему и путь выхода из нее. Ненадолго задумывается, а потом как бы в озарении восклицает:
- Это очень хорошая идея! Но вы должны начертить схему вашего изобретения с указанием размеров доски, расстояний между гвоздями и мест для дырочек, через которые она должна быть прибита к стене. Мы с профессором это рассмотрим, и если он утвердит, я подготовлю специальное распоряжение с приложенным вашим чертежом ему на подпись.
"Это уже не шутки, а какое-то издевательство!".
Но решаю идти до конца.
- Так давайте я ее лучше сам сделаю. Это не трудно. Вся работа займет не более получаса, - говорю.
- Ну что вы! - на лице выражение ужаса. - Это не солидно. У нас для этого есть специальные люди.
"О'кей! Ваши "специальные люди" рвут спины, напрягшись".
Но начертить чертеж для меня никогда проблемой не было. Пять минут. Начертил. Тщательно обозначил все детали. Проставил размеры в миллиметрах. Даже толщины дощечки. Подумал немного, потом стрелкой указал на дощечку - "wood". Нарисовал гвоздь, указал стрелкой - "nail". Написал его размер и диаметр в миллиметрах. Нарисовал еще один гвоздь, чуть побольше, опять обозначил - "another nail" (Еще один гвоздь). Опять размер. Пишу текст о том, что вот этот гвоздь для подвешивания ключей, а вот этот для прибивания дощечки к стене. Задумался: что еще? О, осенило! Пишу: "дощечка - 1 штука, гвоздей..." и т.д. Опять задумался. Все? Нет, не все. Нарисовал молоток и обозначил: "A hammer for attaching the wood up to the wall with nails". ("Молоток для прибивания дощечки к стене гвоздями"). Добавляю: "1 штука". Что еще? Ну, теперь вроде все. Плотника и стену, так же, как и чертеж госпиталя, рисовать не стал, иначе кончилось бы географической картой мира или схемой Галактики.
"Хохмачи, со мной решили поиграть. Сейчас я тебе устрою свою маленькую хохму. Посмотрим, кто кого переюморит".
Отнес, сдал:
- Могу я получить расписку?
- Зачем? - на его лице написаны мучительные попытки понять.
- Мне надо отчитаться перед плотником, иначе он может не поверить.
Долгая пауза с разглядыванием меня. Потом:
- Да, вы правы, - садится за стол и пишет.
"Усраться можно!".
Получил расписку, иду к плотнику.
- На, - говорю, - почитай. Свою часть работы я выполнил. Теперь твоя очередь.
Тот прочитал, сложил листок и засунул в щель между досками на верстаке, где торчало уже несколько каких-то бумажек. На лице ни тени улыбки, скорее какая-то обреченность.
Всю жизнь считал, что с чувством юмора у меня порядок. Юмор высшего качества - шутить без искорки смеха в глазах, несмотря на повальный хохот вокруг. Я по сравнению с африканцами лишь жалкий скоморох, способный вызвать вместо смеха или хотя бы улыбки, только кривую снисходительную ухмылку. Вот что значит настоящее мастерство! Евреев к ним на переподготовку отправлять надо.
В феврале, через семь месяцев от начала моей борьбы с "погремушкой", дощечку, наконец, изготовили и торжественно прибили. В задней комнате-кладовке, где стоял огромный сейф, а у стены были сложены регистрационные и прочие журналы за много лет. Кроме одного человека, туда войти не мог никто. Я назвал это помещение "интимная комната".
- А почему вы повесили ее здесь? Здесь же тесно.
- Чтобы воры не увидели.
"Логично. А в вазе, стоящей на столе для всеобщего обозрения, они были спрятаны надежно, как в банковском сейфе".
Дощечку не совсем горизонтально прибили на высоте двух метров. Чтобы повесить или достать ключ, большинству приходилось вставать на стул, который каждый раз нужно было вносить и выносить с собой, иначе ни открыть, ни закрыть дверь возможности не было. Правда, для этого надо было разуваться, а потом снова обуваться, чтобы не пачкать стул. Сама дощечка получилась занозистой и, несмотря на тщательно разработанные мной параметры, примерно в полтора метра длиной. Редкие и разные по размерам старые гвозди на ней были прибиты волнами. Для красоты! Но через неделю на этой дощечке печально болтались только два ключа - мой и еще один, от кабинета нашего дантиста. Все остальные, видимо, истосковавшись, вернулись к своей "погремушке". А, может быть, им просто надоела игра со стулом и обувью.
С самых первых дней своей работы я заметил в госпитале одну странность. Компрессор для работы зубоврачебного кабинета был установлен в специальной будке во дворе, за корпусом, прямо напротив окон кабинета. Шланг для подачи воздуха шел напрямую через дырку в стене под подоконником. А включатель-выключатель был в самой будке, рядом с компрессором. Поскольку воры могли унести и этот агрегат, будка закрывалась тяжелой решеткой на три массивных висячих замка.
Когда назревала работа, медсестра с ключами выскакивала из кабинета, бежала вокруг корпуса, открывала замки, включала компрессор, вновь закрывала будку на все три замка и, повторяя полукруговой забег, возвращалась в кабинет помогать врачу. По окончании работы с одним пациентом все повторялось в обратном порядке: опять она бежала, открывала, выключала, закрывала и неслась назад. И так весь день. А пациентов бывает и по двадцать на дню. К вечеру эта бедняжка уже еле волочила ноги.
Понаблюдав за ней, я как-то сказал электрику, что мол не мое это, конечно, дело, но нельзя ли перенести выключатель компрессора непосредственно в кабинет. Это же так просто, всего три метра двужильного провода. И медсестре кругами бегать не придется, и время, которое, как известно - деньги, будет сэкономлено, и даже электроэнергия. Он со мной согласился, но делать это почему-то не ринулся. Не могу сказать, что он был перегружен. Основная его работа заключалась в замене по мере надобности лампочек во всех помещениях госпиталя. Последняя его серьезная "операция" была недели за три до того разговора - он ремонтировал чей-то старый утюг.
Несколько раз я возвращался к этой теме, но с тем же результатом. Через три месяца, в преддверии сезона дождей, из-за чего я заранее выплакал по медсестре все слезы сострадания, я заглянул в каптерку к этому мастеру, выпросил у него кусок подходящего провода и сделал проводку сам.
Мое непосредственное место работы - операционная - своими размерами напоминала прихожую в наших советских "хрущевках". Не считая анестезиолога с наркозным аппаратом и стола с лежащим пациентом, там могло уместиться максимум четыре человека. Больше даже на одного можно было уже без преувеличения назвать толпой. Операционная в соответствии с правилами была почти герметичной. Регулировочный винт маленького вентилятора, стоявшего в углу на столике, был сломан, поэтому он, печально свесив голову, дул в пол. Полная амуниция хирурга по всему миру состоит из колпака, маски и стерильного халата, одетого поверх униформы. Голых хирургов, одевающих такой халат, я не припоминаю ни в одной стране, где мне выдалось побывать. Для тех, кто никогда не одевался подобным образом, поясню: в такой форме, да еще с напряженной работой, это жарко, душно и мокро. Невольно вспоминаются кадры из разных фильмов, где медсестра вытирает пот с лица утомленного хирурга. А теперь представьте себе, что дело происходлит в Африке. А кондиционера нет.
- Почему? - спросил я профессора.
- Там есть кондиционер, - отмахнулся он от меня.
Я тщательно обследовал все помещения оперблока. Покопался для полноты поиска в мусорном баке, заглянул под операционный стол, в материальную, в кладовку. Нашел! В автоклавной. Ну правильно, в ней же жарко, хотя медсестра проводит там минут пять-десять за весь день, а сам автоклав работает не больше полутора - двух часов.
Я не стал переубеждать профессора. Он - профессор и хозяин, ему видней. Но стал искать какой-то другой выход. И вдруг обнаружил кондиционер, подвешенный высоко под потолком, в "предбаннике" у дантиста.
- А он не работает, - сказал мне электрик, в ответ на мою сердечную просьбу перенести его в операционную.
- Почему?
- Да кто ж его знает? Не включается, - пожал он плечами.
- Так давай снимем его и посмотрим, может быть, там предохранитель сгорел, или контакт какой-нибудь отпаялся.
- Сегодня не могу. Завтра.
"Завтра" продолжалось около четырех месяцев, после чего он сказал мне, что не может трогать его без разрешения администратора. Я понял, что это тупик, потому что начертить схему снятия кондиционера со стены я бы не сумел даже при самом сумасшедшем разгуле своей фантазии. Пришлось смириться с тем, что этот тур я безнадежно проиграл.
В первые же две-три недели по моем прибытии в Замбию у меня там появилось несколько приятелей из числа таких же, как я приезжих. Они жили в Африке уже достаточно долго и знали о местной жизни неизмеримо больше меня, По этой причине я слушал их рассказы буквально раскрыв рот.
Как-то в разговоре у нас появился повод поговорить об африканском менталитете. Я с пеной у рта боролся за африканское право иметь свой собственный взгляд на происходящее, на что один из собеседников рассказал мне показательную историю, которой оказался свидетелем сам.
По его рассказу, это произошло несколько лет назад, когда он жил в Конго. Однажды там во всем городе погас свет. Богатые фирмы и госучреждения быстро приобрели дизельные генераторы, но включали их только в рабочее время. По вечерам для освещения использовались свечи. Поскольку природного газа в Африке нет, в любой кухне установлены электроплитки, которые в возникшей ситуации дружно "вымерли". Еду стали готовить на кострах. Вода из артезианских скважин в Африке тоже подается электромоторами, поэтому не стало и ее. И вот это было уже катастрофой, потому что воду стали брать где попало. По городу начались отравления и эпидемии. Загадили все, что было еще не загаженным. Кроме того, возросла и без того высокая преступность. Все это продолжалось целый месяц.
А причиной "стихийного" бедствия оказалось то, что жители какой-то деревни потихоньку отпиливали куски железа от ножки одной из ближайших опор высоковольтной линии электропередач для того, чтобы делать себе мебель и прочие домашние навороты. Когда эта громадина рухнула, кого-то пришибло, еще кого-то сожгло током, но это было мелочью, только лишним поводом попеть да поплясать на похоронах. В отчаянии им просто задали вопрос: почему они пилили только одну ножку и только от одной опоры? Объяснение было гениально простым: от одной ножки потому, что у опоры оставалось еще три, а тренога - это устойчиво. Тем более, что сама она еще и удерживалась проводами. А от одной опоры, поскольку до других по обеим сторонам очень далеко - метров 150.
- Вот тебе и весь их менталитет, - закончил приятель свой рассказ.
С одним из моих новых друзей мы частенько коротали свободное вечернее время в одном из баров в пяти минутах неторопливой ходьбы от дома. Белые люди в африканском баре всегда привлекают к себе внимание окружающих. А когда выяснилось, что мы русские, очень быстро нашлись два алкаша, которые, отучившись когда-то у нас или поработав с советскими работягами в самой Замбии, еще не забыли наш язык. Но поскольку они общались в те годы только со своими сверстниками или "коллегами" - студентами или пролетариатом - их манера высказываться имела очень своеобразный стиль.
Один из них, уже почти полный деградант, помнил только два цензурных слова: "бабушка" и "большой", все остальное было суперскабрезным. Он появлялся на пороге бара в старой рваной и грязной майке-футболке, изначальный цвет которой определить было уже невозможно, в "семейных" трусах, которые он принимал за шорты, и в белых, ярко блестящих резиновых сапогах.
Остановившись на входе, он оглядывал помещение и, найдя нас, начинал громкую демонстрацию своих обширных познаний в иностранных языках, предназначенную не столько нам, сколько своим землякам, доказывая им свое преимущество и исключительность. Не прекращая свой монолог, он постепенно приближался к нашему столику. Если бы окружающие понимали его выражения, его бы вышвырнули из бара уже на второй минуте. У нас за это дают пятнадцать суток. Публика, которая знала его самого не первый год и не понимала, к чему он их призывает, не только не прислушивалась к его пламенной речи, но и не обращала на него ни малейшего внимания. А мы вынуждены были покупать его исчезновение бутылкой пива и сигаретой. Иным способом остановить этот "фонтан" было невозможно.
Однажды я как-то попытался воспротивиться этому его наглому и бесконечному вымогательству, но он натолкал мне столько "факов", сколько я не слышал ни в одном американском боевике. Я хотел дать ему в морду, но мой приятель меня опередил: дал ему и пиво, и сигарету.
Другой, одетый всегда в строгий черный костюм с белой рубашкой и галстуком-"бабочкой" (за что получил от нас прозвище "маэстро"), прямиком шел к нашему столику. Ни слова не говоря, он хватал ближайший свободный стул, степенно усаживался, подправив стрелки на брюках и одернув пиджак. Затем, так же молча, он вытаскивал сигарету из одной из наших пачек, лежавших на столике, прикуривал от ближайшей зажигалки и, кинув ее на стол небрежным жестом, откидывался на спинку стула, закидывал ногу на ногу, и только после этого ритуала здоровался по-русски:
- Добри вэчи, ёту мат!
Далее следовал трогательный рассказ о своей жизни в России и "друзьях-однополчанах". Вскоре мы уже знали всю его историю почти наизусть, потому что его повествование каждый раз повторялось, как музыкальная фраза на испорченной грампластинке. Угощать пивом и сигаретами своего "земляка" для нас, с его точки зрения, было самим собой разумеющимся.
В этом кафе я впервые увидел пьяных замбийцев. Их было трое. Вначале я ненароком отметил момент их появления. Они были еще трезвыми. В руках у них было по бутылке пива. Они сели в отдалении от нас, но уже минут через десять-пятнадцать на все кафе были слышны их громкие голоса, заглушавшие все остальные звуки и мешавшие спокойной беседе.
- Вот суки, - сказал мой приятель. - Насосались, теперь спокойно поговорить не дадут.
Я присмотрелся к ним и понял, что все трое уже бухие вдребадан. Они смеялись, орали что-то друг другу на своем языке, размахивали руками с зажатыми в них бутылками, в каждой из которых была еще добрая половина содержимого. А бутылки-то по 375 грамм. Как же можно было так нажраться с одного стакана обыкновенного пива?! Я волей-неволей стал смеяться вместе с ними.
В один из таких вечеров я рассказал о забавной сцене, которую наблюдал в госпитале в тот день. Там заводили машину "с толкача".
Водитель, приехав навестить кого-то, оставил ее стоять задом к склону. Сама машина заводиться не желала, и он попросил наших технарей толкнуть. Мне было непонятно, зачем толкать, если машина стоит на спуске. Казалось бы, сними с тормоза, и она сама очень быстро наберет достаточную скорость. Благо места предостаточно и даже есть куда повернуть.
Но ни водитель, ни технари таким вопросом задаваться не стали. Наши втроем подошли и, напрягшись до посинения, стали толкать машину... вверх по склону холма, туда, куда она стояла носом. Я опешил и не мог вымолвить ни слова. Большую нелепость трудно было даже себе представить.
Разумеется, разогнать машину до нужной скорости у них никак не получалось. Тогда они стали ее... разворачивать! В несколько приемов, потому что дорожка в этом месте была неширокой. Метров на пять выше по очень пологому склону находилась широкая горизонтальная площадка, где можно было бы и развернуться, и даже разогнаться. Тем более, что они туда эту машину и толкали. Но они это проигнорировали и с тупым упрямством продолжали маневрировать на месте.
Наконец им удалось ее развернуть. И только тогда они толкнули ее уже под горку. На сей раз у них получилось. Скорость оказалась более, чем достаточной, и водитель легко завел мотор. Но из-за той же скорости ему не удалось вовремя затормозить и машина, скользнув по гравию, влетела передними колесами в канаву.
Водитель выключил двигатель, вышел и уставился в то место, где прочно сидела машина. Теперь ее надо было вытаскивать оттуда, а это опять в горку. Подозвали двоих чужих. Впятером они, наконец, справились. Но из-за заглушенного двигателя все пришлось повторять. На сей раз, правда, им было легче, потому что они были уже впятером, а необходимость разворачивать машину отпала. Они просто немного сдвинули ее вверх по холму, а потом повернули "мордой" к воротам и вытолкали со двора вон.
Проезжая мимо меня, водитель скорчил мне свирепую рожу, потому что я в голос смеялся все время, пока они со всем этим возились.
Я сказал тогда приятелю, что эта история напомнает мне грузинские короткометражные комедийные фильмы из прошлого века, и поведал ему содержание последней из виденных мной лент. Там спасали односельчанина, который забрался на столб, и не мог самостоятельно слезть. Ему бросили конец веревки, приказали обмотаться, а потом дернули.
- Как же так? - удивленно чесал затылок организатор "спасения", склонившись над бездыханным телом. - Мы неделю назад одного человека из колодца так вытаскивали и все было нормально.
Мой собеседник только слегка ухмыльнулся:
- Ты рассказываешь мне о кино. Здесь похожий случай был в жизни.
По его рассказу один местный житель забрался на самую верхотуру пятнадцатиметровой решетчатой радиоантенны и стал орать оттуда, что намерен броситься вниз, поскольку решил свести счеты с этой поганой жизнью, где его все обманывают, особенно - жена. Когда аудитория собралась приличная, все наперебой стали его отговаривать. Если бы он всерьез решил "завязать" и со своей женой, и с созерцанием этого мира в целом, он просто молча, без всяких объяснений, прыгнул бы мордой вниз, зажав в кулаке прощальную записку. Но у него истерика, он свое гнет: мол, бросаюсь, и все тут.
Кто-то вызвал полицию. Стражи порядка прилетели, вникли в ситуацию и один из них куда-то быстро сгонял и вскоре вернулся, прихватив с собой веревку с "кошкой" на конце и один матрас. Догадаться привезти жену этого мудака у него ума не хватило. По высоте антенны они шагами рассчитали место, куда предстояло приземлиться претенденту на вечную память, и расстелили матрас. Потом освободили тросы-растяжки и, закинув "кошку" повыше, дернули. Антенна, падая, сделала полоборота той стороной книзу, где в нее вцепился мертвой хваткой этот бедолага. Он не дотянул сантиметров двадцать до матраса и грохнулся на землю, а сверху его хрякнуло всей тяжестью этой металлоконструкции. Чтобы не отползал.
- Ох, черт! Чуть-чуть ошибся, - сказал автор гениальной идеи спасения "самоубийцы", наматывая веревку на "кошку".
После моего переезда в Танзанию жизнь была для меня поначалу не столь насыщенной забавными историями, поскольку здесь я оказался в полном одиночестве. Ни знакомых, ни, тем более, приятелей. Когда я немного встал на ноги, я приобрел небольшой телевизор и маленькую "тарелку", которая позволяла смотреть много интересного из разных африканских уголков и из некоторых стран остального мира. Вечерами белым гулять по улицам здесь настоятельно не рекомендуют, поэтому мне ничего больше не оставалось, как таращиться в "ящик".
В один из вечеров меня позабавил показанный по TV рассказ об африканце, которому исполнилось 106 лет. За свою жизнь он имел 30 жен, причем многих из них одновременно. У него на тот день было более 250 детей, и одна из школ, в которой они учились, целиком состояла из его потомства. А самому младшему его сыну было всего 4 года. Некоторых своих детей он не мог вспомнить, а внуков и не знал.
Мне было интересно, есть ли у него "конкурент" на Кавказе? По возрасту наверняка, а вот со всем остальным, думаю, что вряд ли.
Еще одна передача, несмотря на свою трагическую изнанку, немало меня насмешила. Это был репортаж из какой-то танзанийской деревни. Одного из ее жителей утащил крокодил. Об этом возбужденно рассказывали, показывали то место, где всё произошло. Отдельно показали рыдающую вдову с детьми. Передача закончилась разъяснительной беседой с жителями деревни, которых несколько раз предупредили об опасности приближения к реке. Это предупреждение сыграло роль рекламного ролика.
Назавтра жители и этой, и соседних деревень высыпали на берег реки, посмотреть на крокодилов. В результате недосчитались еще пятерых.
Жизнь в Африке пестра и ситуативно разнообразна для тех, кто приехал издалека. Для самих африканцев она - серая рутина, ибо с юмором у них неважно. Подход и трактовка его в Африке совершенно иные. Они смеются не тогда, когда смешно, а когда чему-то рады.
У них печатаются в газетах и журналах юмористические рассказы. Там же можно найти и массу комиксов на понятные им бытовую, спортивную и сексуальную темы. Они могут "ущипнуть" внутреннюю политику, но "наружная" для них неприкосновенна. Ничего веселого во всех этих писульках и картинках я ни разу не нашел. Большинство из них представляет из себя грубо слизанный плагиат, наскоро переделанный на местный лад, а другие - честная перепечатка из западных изданий.
А вот понятия "анекдот" в Африке не существует. Я много раз пытался переводить для них и рассказывать наши шедевры этого вида искусства. Причем, не затрагивая ни политику, ни чьи-то национальные особенности, ни элементы быта. Только на чисто нейтральные, общечеловеческие темы. То, что это шедевры, можно не сомневаться, проверено многократно. Искажение при переводе или рассказе тоже исключено, не раз апробировано на других англоязычных "товарищах". Африканцы в лучшем случае застенчиво улыбались из чистого желания не обидеть чувства рассказчика.
Они могут посмеяться над кино- или теледурачками, типа мистера Бина, лучшими шутками которых, кроме природного умения строить отвратительные рожи, являются постоянные падения, швыряние тортов в чье-то лицо, появление без штанов в самый неподходящий момент или аккомпанирование себе "молнией" своей ширинки. Выходки глубоко провинциальных клоунов. Тем более, что в клипах или телепередачах с их участием время от времени звучит записанный коллективный смех в тех местах, где рекомендовано смеяться. Такие спектакли научились разыгрывать и сами африканцы.
Их может рассмешить человек, который по неосторожности на что-то сел или к чему-то прислонился и испачкался, или предстал перед их взором с какой-то оплошностью в своей одежде, но сам этого не заметил. Они никогда не подскажут бедолаге его конфуз, не объяснят причин своего веселья, но будут от души смеяться сами, и позволят ему и дальше бесплатно смешить других.
Но зато они будут вдумчиво дискутировать над внезапно всплывшей историей о том, что чья-то жена изменила своему мужу с "футбольной командой" или "симфоническим оркестром", из-за чего он отрубил ей ноги, а себе целых двадцать сантиметров того, из-за чего все это, собственно, и произошло. Африканцы будут всерьез обсуждать эту "кошмарную трагедию" и ничего смешного в ней не найдут. Ее им жалко, потому что она теперь никуда не сможет "сбегать", а ему будут глубоко сочувствовать, потому что он с оставшимися тридцатью сантиметрами стал таким, как все, и уже никому не нужен тоже, даже ей самой. Отрубил бы сантиметров десять, проблема бы не возникла, и вообще об этой истории никто бы не узнал. Африканцы будут обсуждать эту историю, сокрушенно качая головами, и не улыбнутся, даже если кто-то из них играл "левым крайним полузащитником" или исполнял "соло для валторны".
Или, например, над другой реальной историей, происшедшей с одним бизнесменом, банковским служащим, любителем бейсбола. Придя однажды домой после тренировки раньше обычного, он обнаружил свою жену в объятиях исполняющего обязанности мужа. Дать ей битой по ягодицам, а ему между колен он не догадался. Ему даже не пришло в голову подпереть дверь. Придя в неописуемое бешенство, он выскочил из дома, наскоро облил его бензином и подпалил. Невезучие любовники, слегка приодевшись, выскочили из дома и скрылись в неизвестном направлении. Дом сгорел дотла вместе с мебелью, одеждой, документами и деловыми бумагами, включая деньги. Сгорела и стоявшая рядом машина этого ревнивца. Любовники скоро поженились, и в положенный срок родили первенца. А этот бездомный и оборванный нищий придурок, потеряв еще и работу, спит на улице и торгует водой. Такая история для африканцев - жуткое горе. Ничего, чтобы посмеяться, в ней для них нет.
Или еще над одной историей, когда среди бела дня, в час пик, на одной из центральных улиц столицы с очень медленным движением, из-за "одного" дурака целует друг друга в зад подряд девять машин! Это для них тоже не смешно. Они будут остро сочувствовать последнему в этой "очереди", потому что денег на ремонт всех машин у него не будет никогда, и ему предстоит провести остаток своей жизни в тюрьме, хотя он всего-навсего стал "жертвой несчастного случая". Старая истина, как "притча о стрелочнике": коллективная глупость индивидуально наказуема.
Все это только малая часть африканской жизни. Каждый день здесь происходят десятки мелких забавных историй, которые и не упомнишь. И если верить крылатому выражению: "Час смеха заменяет стакан сметаны и продлевает жизнь на один день", то я уже могу расчитывать если не на бессмертие, то уж на долгую жизнь наверняка. Только без сметаны. Так что с долголетием!..
Слушайте
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
«Не так давно Владимир Зеленский был комиком в Украине…» Ну и что, что комиком? Президент Рейган играл в Голливуде роли дешевого ковбоя – и так прожил до 50 лет! И этот господин Рональд, «актер второго плана» и легкого кино-жанра, стал одним из величайших президентов США!
март 2025
СТРОФЫ
Первые стихи Седаковой появились в печати тридцать лет назад. С тех пор каждое ее стихотворение, перевод, статья, обращение-событие.
март 2025
ИСТОРИЯ
Чем же обернулось для самой этой «Страны рабов» убийство Великого Поэта на самом взлете его гениального дарования? Нетрудно догадаться, что она была им проклята и ровно через 100 лет, в годовщину его рождения в 1914г.началась Первая Мировая Война, которая стоила России несколько миллионов жизней и вскоре приведшая к её полному обнищанию и ещё большему количеству жертв в ходе последующих революции и Гражданской Войны.
март 2025
НОВЫЕ КНИГИ
Легенда о проволоке на пробке шампанского, знаменитой вдове Клико и любви русских к игристым винам!
Исторический нравоучительный анекдот. Граф Александр Васильевич Суворов: «Вот твой враг!»
Генерал М. П. Бутурлин. «Заставь дурака Богу молиться...»
март 2025
ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ДЕЛА
Причиной шока были трехзначные числа, обозначавшие количество сбитых самолетов членов антигитлеровской коалиции на Восточном и Западном фронтах ТВД. Выяснилось, что пилоты немецкой 52-й истребительной эскадры Эрих Хартманн, Герхард Баркхорн и Гюнтер Рахлл за годы войны сбили 352 (348 советских и 4 американских), 301 и 275 самолетов соответственно.
март 2025