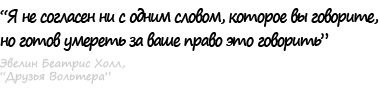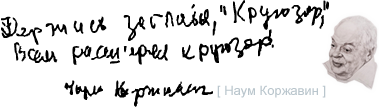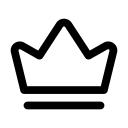ПАРАДОКС
Из мемуаров в двух книгах
Опубликовано 6 Июля 2010 в 04:29 EDT
ИЗ КНИГИ 1-Й: "ОДИНОЧЕСТВО ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ"
Начало конца
…Итак, Минкультуры РСФСР при участии представителя Хабаровского крайисполкома Ивана Бритта приняло спектакль "Тевье из Анатовки". Тут же последовало распоряжение за подписью первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС А.К. Черного: премьеру, как положено КЕМТу, играть в Биробиджане. Не выполнить распоряжение мы не имели права, и в первых числах июня 1983 года театр вылетел в Хабаровск. В "родном" крае нам предстояло дать двадцать спектаклей. На аэродроме в Хабаровске я услышал от встречав-
шего нас Бритта, что гастрольную программу начинаем не в Биробиджане, а в самом Хабаровске, на сцене городской филармонии спектаклем "Тевье из Анатовки". Это известие обрадовало труппу. Хабаровск все же не Биробиджан. Меня же такое внезапное изменение маршрута озадачило: чувствовалось в этом нечто "директивное". И я не ошибся. В тот же вечер меня пригласил к себе в кабинет А.К. Черный. Обычно радушный и приветливый со мной, Алексей Клементьевич на этот раз был непривычно сдержан, сух и немногословен. Здороваясь, назвал не просто по имени, как раньше, а по имени-отчеству, и это мгновенно насторожило меня. Я понял, что кто-то усердно поработал и
настроил Черного против моей особы.
- Мне рассказали, что москвичи с восторгом приняли новый спектакль нашего театра, - начал Черный после того, как мы обменялись рукопожатиями и он предложил мне сесть. - Отрадно, отрадно. Собственно, мы и не сомневались в творческих возможностях труппы и лично ваших. Но у партийного руководства есть серьезные претензии к вам, Юрий Борисович, как к режиссеру.
- В чем же? - искренне удивился я.
- Трагедия старого молочника-еврея… революционер… русский зять, дочери, восставшие против старого быта, - это отлично! Но финал! Куда вы отправляете в финале еврейское население? Куда они карабкаются вверх по вашей лестнице? Уж не к Богу ли?
- Именно! К Господу! А куда ж идти, когда нет им места на земле, их отовсюду гонят?
Черный возмутился:
- Вы эти религиозные ваши штучки бросьте! В "Последней роли" выдумали какую-то грешницу, ангелов, сатану, греховодников. Сейчас отправили народ за спасением к Господу.
В голосе Черного звучал металл. Конфликт нарастал, а я вовсе не стремился к нему. Все эти годы наши отношения с Алексеем Клементьевичем были доброжелательными, ровными. Он опекал наш театр, не жалел на него денег, сдерживал Бритта. Уж не говоря о том, что не поддержи он мою идею о создании еврейского музыкального театра тогда, в 1977-м, когда я объявился в его кабинете, не родиться бы ни КЕМТу, ни мне, его директору и главному режиссеру. Видит Бог, я не хотел столкновения с человеком, которого от души уважал, которому был многим обязан. Но и не мог поступиться своими принципами.
- Что же вы посоветуете, Алексей Клементьевич? - спросил я, как спрашивают доброго учителя.
- Ваш герой, этот, как его… Тевье… и его односельчане в финале спектакля должны искать спасения у народа, а не у мифического Бога. Они должны обратиться к народу, то-есть к зрителям, вместо того чтобы показывать им задницу и лезть на небеса. Бред какой-то придумал ты, Юрий Борисович!
- Но дело происходит в царской России, - пытался я переубедить Черного.- И народ, у которого вы советуете искать нашему Тевье защиту от погрома, и есть тот самый погромщик, спровоцированный правительством.
-Вы что?!- Черный неожиданно вошел в свою привычную роль хозяина, чего прежде никогда не позволял себе со мной. - Хотите сказать, что советские зрители тоже антисемиты? Кажется, скоро договоритесь и до того, что в Советском Союзе существует государственный антисемитизм?! И это после того, как мы позволили вам организовать еврейский театр? Поостерегитесь, Шерлинг! Категорически запрещаю нашим артистам лазить к Богу!
При всем трагизме ситуации я едва сдержался, чтобы не рассмеяться при последних словах "первого", хотя понимал, что именно хотел сказать мой разъяренный собеседник.
Сообразив, что пора срочно ретироваться, я откланялся и направился к выходу из кабинета, сопровождаемый гневным окриком Черного:
- Не вздумайте вешать нам лапшу на уши, не выйдет! Мне ваши аналогии…
Дальнейших слов я не слышал. Плотно затворив за собой дверь, поспешно пересек приемную, сбежал по лестнице. На улице остановился, с трудом переводя дух. Отдышавшись, двинулся куда глаза глядят. Дело дрянь, понимал я. Такого поистине трагического оборота я совершенно не ожидал. К какому зрителю?! К какому народу?!
Пойти на поводу Черного- значило плюнуть в собственную душу, перестать уважать себя, отступиться от своих жизненных принципов. Стать в оппозицию к нему - потерять театр. Быть может, еще не сегодня, но завтра несомненно. Черный не из тех людей, которые прощают ослушание. Середины не было. И не могло быть.
Я все же ослушался. Тевье - и вместе с ним все евреи Анатовки - искали спасения у Бога. Финал игрался таким, каким был задуман изначально. Я же одновременно играл финал своей режиссерской деятельности в КЕМТе. И, словно подтверждая это, присутствовавший на премьере Алексей Клементьевич Черный, дождавшись, когда Тевье ступит на первую ступеньку лестницы, устремленной в поднебесье, шумно поднялся со своего кресла. Правительственная ложа театра мгновенно опустела. Обычно Черный заходил к нам за кулисы, поздравлял с успехом, интересовался, не надо ли чего. Сейчас этого не
произошло.
Наша следующая встреча с "первым" состоялась лишь год спустя. На спектакле далеко не театральном. А последняя - много лет спустя.
Удавка затягивается
Современному читателю не понять, что в советское время означала для руководителя любой организации опала со стороны первого секретаря крайкома КПСС, да еще такого как А.К. Черный - члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР. Притом продемонстрированная прилюдно. И театр, и Минкультуры, и даже некоторые мои так называемые приятели - все словно застыли в ожидании неизбежных резких телодвижений начальства. Но главное- театр, мой театр, мои артисты. Словно ослабла некая сдерживающая сила и на поверхность вырвалось то самое "течение", о котором говорила когда-то Люся Улицкая. Какое-то шушуканье по углам. Нелепые сплетни обо мне… Предрекания моего конца… И повсюду набрио линенная башка Валерия Павловича Горина с его неизменной слащавой улыбочкой. И непривычно активный Миша Глуз, раздающий административные указания, не имеющие никакого отношения к его должности главного дирижера. Миша в моем кабинете, Миша в моем кресле…
- Тебе что, не терпится? - съязвил я однажды.
- Всему свое время, - в тон мне ответил Глуз и вышел из кабинета.
Казалось бы, Миша, близкий друг, первым должен был заговорить со мной о реакции Черного на наш спектакль, забеспокоиться. Нет, не беспокойство, не сочувствие - злорадство читал я в его взгляде, словах. Я не сомневался, что как режиссеру КЕМТа мне пришел конец. Его не избежать, даже если изменю сейчас финал "Тевье из Анатовки". А я не изменю! И Черный, знавший мой норов, отлично понимал это. Почему же оттягивал свое решение? Иезуитские методы
были не в характере Алексея Клементьевича, привыкшего рубить дерево на корню. Более того, КЕМТ продолжал гастролировать. Побывал в Ростове, Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Омске, Иркутске, где хотя и не часто, но играл "Тевье". Даже несколько раз показал его в декабре 1983-го в Москве на сцене ДК железнодорожников. Члену ЦК КПСС А.К. Черному ничего не стоило добиться запрещения спектакля. Однако он этого почему-то не сделал. Лишь без моего ведома в типографском либретто финал был изменен так: "Песней Тевье собирает под свое крыло родных, соседей, земляков. Звучат слова прощания с милой сердцу Анатовкой. Но в прощании не только печаль и горечь - в
нем вера в любовь и неиссякаемая надежда: "Анатовка, Анатовка! Мы вернемся к тебе, родная Анатовка…"" Играли же мы спектакль в прежней редакции: евреи Анатовки восходили по лестнице в поднебесье, под защиту Бога.
Однажды я увидел, что в афишах КЕМТа появился сиреневый кружок со словами
посредине: "50-летию Еврейской автономной области посвящается". И сразу понял подноготную некоторой лояльности ко мне партийных боссов Хабаровского края.
Близилось 50-летие ЕАО, и КЕМТу предстояло участвовать в торжествах, на которые несомненно съедутся иностранные гости. В такой ситуации менять главного режиссера, имя которого уже известно не только в стране, но и за рубежом, было бы по меньшей мере неразумно.
А обстановка в КЕМТе меж тем накалялась. Не без содействия Валерия Павловича новыми рабочими сцены зачислили трех членов партии, в театре появилась партийная организация, и, как неизбежное следствие, начались доносы. Естественно, в первую очередь на меня. Один из таких доносов- самого секретаря парторганизации, инженера, по национальности еврея- мне удалось перехватить. Донос адресовался уполномоченному КГБ СССР В.П. Горину - да-да, тому самому Валерию Павловичу, моему соглядатаю с набриолиненной башкой. Я храню в своем архиве этот документ как уникальное свидетельство со-
ветского времени:
"На планерке по производственным вопросам Шерлинг допускал такие выражения: "При решении вопроса вы натолкнетесь на антисемитов, которые будут вам препятствовать. Учтите, мы здесь как оазис в пустыне и т.д.". Что меня совершенно потрясло, на репетиции я услышал совершенно недопустимое высказывание Шерлинга. Остановив репетицию, он обратился к актеру - секретарю комсомольской организации (была такая в КЕМТе. - Ю.Ш.) тов. Бейраховичу со словами: "Вы такой же несостоявшийся актер, как ваша Биробиджанская область, откуда вы родом, она тоже не состоялась". Меня поразило, что никто из актеров не высказал возмущения по этому поводу.
Позднее, беседуя с тов. Бейраховичем, я, как секретарь парторганизации, ему сказал, чтобы он продолжал работать, что этому в свое время будет дана оценка.
Не могу понять, почему наш театр постоянно должны посещать иностранцы, за-
ходя на репетиции… Когда временно запретили играть спектакль "Я родом из детства", я сказал тов. Шерлингу: "Это, вероятно, из-за того, что произносимый со сцены текст не совсем, мягко говоря, аккуратен с точки зрения сегодняшних событий, где и так все обострено. Вы, например, говорите, что евреи, где бы они ни селились, многое брали у народов, но многое им и давали (а разве не так?! - Ю.Ш.). Нужны ли сейчас такие слова? Является ли это главным, или существуют более актуальные вопросы, которые должен решать театр?" Шерлинг промолчал, он вообще не воспринимает чужих мыслей, кроме своих, и мнение партийной организации его абсолютно не интересует (прав доносчик! - Ю.Ш.)… Я считаю, что человек с таким моральным уровнем не может возглавлять советский театр. Если кто-либо считает, что его уход из театра приведет к развалу, совершает ошибку. Есть все возможности сохранить театр как носителя идей нашей Родины.
Да, кандидат на замену уже готовился… А что доносчик? Как поступил я с ним? Очень просто: показал ему его донос, и этот имярек коммунист, видимо, согласовав вопрос с Валерием Павловичем, на следующий же день подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Я не ошибался, предположив, что срок моего пребывания директором и главным режиссером КЕМТа продлен в связи с приближавшимся юбилеем ЕАО. Вскоре получил из Хабаровска указание Ивана Бритта поставить к этой дате оперу на либретто в стихах Наума Олева "А голдэнэ хасэнэ" ("Золотая свадьба"). Указание сие было директивным. Никто даже не спросил ни моего согласия, ни мнения о пьесе - советской агитке, рассказывавшей о райской жизни в Биробиджане.
Но спорить с хабаровскими партаппаратчиками от культуры было бесполезно, и мы принялись за постановку.
Прежде всего требовалось написать музыку оперы. И здесь я впервые натолкнулся на обструкцию со стороны Глуза.
- Писать музыку на это не стану, - заявил он безапелляционно. - Доказать же Черному и Бритту, что это говно,- не моя, а твоя задача. Не можешь, пиши сам. Так уж и быть, помогу с аранжировкой.
Миша отлично знал, что спорить с Черным я уже не мог, и все же не преминул причинить мне боль.
Делать нечего - я сел писать один. Никогда раньше не бралс я сочинять музыку, тема или слова которой меня не волновали, были не моими, не вызывали во мне творческого отклика. Написал. Заставил себя. И получилось довольно интересное произведение. Глуз, как обещал, аранжировал. Отрепетировали. Художник Игорь Попов выстроил неплохие декорации. По эскизам Гали Колманок сшили костюмы. Короче, к назначенному сроку спектакль поставили. И отыграли на юбилейных торжествах в Биробиджане и Хабаровске. Это было мое последнее посещение Биробиджана и предпоследнее - Хабаровска.
О самом спектакле рассказывать не стану. К моей творческой биографии он ничего интересного не прибавил.
Отыграв в Биробиджане и Хабаровске, КЕМТ согласно гастрольному плану в начале июля 1984-го прибыл в Сочи. Но еще до эт ого в Москве со мной произошло с транное происшествие.
На гастроли мы отправлялись с базы на Таганке. Не припомню, почему за рулем моего "вольво" сидел наш шофер Андрей, хотя свой автомобиль я обычно водил сам. И вот, когда мы выехали из тоннеля, с парапета прямо на капот машины с каскадерской точностью бросился какой-то парень. Андрей резко затормозил. Заскрежетали тормоза проезжавшего рядом автомобиля, и только после этого парень скатился на мостовую - цел и невредим, что, естественно, несказанно обрадовало меня.
Удивительным показалось мне то, что начатое было сотрудником ГАИ дознание по факту ДТП тут же прекратилось, едва выяснилось, что за рулем сидел Андрей, а не я. Но еще более удивительной показалась беседа, которую провел со мной Валерий Павлович. Не считая даже нужным скрывать свою роль, он стал убеждать меня в необходимости принципиально изменить позицию театра, превратив его в вокально-танцевальный ансамбль. Взамен сулил не только заграничные гастроли, вплоть до американских, но и стопроцентную защиту от неожиданных происшествий, способных замарать честь самого достойного человека.
С величайшим трудом я сдержался, чтобы не послать своего "доброжелателя" куда подальше, и пообещал подумать.
- Времени на раздумья у вас не осталось,- предупредил меня напоследок Горин.
Это я понимал и сам. Понимал и другое: моя дальнейшая судьба предрешена,
причем в таких инстанциях, куда мне было не добраться. И все же не сдавался. До последней секунды. Надеясь на чудо. Сознавая, что чуда не произойдет. Мое имя было настолько известно, что просто так убрать меня из КЕМТа не могли. Нужна была весомая скандальная причина, притом исходящая от меня самого. И ее начали выстраивать.
В Сочи мы играли однажды, в году минувшем, и знали, что радушного приема от местных властей нам ждать не приходится. Чиновники с оканчивающимися на "ко" фамилиями твердили, что наши спектакли мешают отдыхающим. Потребовалось вмешательство Минкультуры РФ, чтобы гастроли в этом городе состоялись.
Настроение было отвратительное. Распадалась труппа, созданная сердцем, нер-
вами, потом и кровью. Ушли самые талантливые артисты: Вера Радачинская, верный мой друг Таня Карасик (по личным мотивам), Ира Климова (в угоду своему возлюбленному Глузу). Яша Явно - в знак протеста против того, что ему не предоставили в гостинице персональный номер, умотал в Ялту с какой-то иностранкой… Все откровеннее становились слухи о том, что только из-за меня, моей строптивости, нежелания строить правильные отношения с руководством министерства и Хабаровского края ("и Черный от нас отвернулся") КЕМТ не выпускают за границу. "Вот если бы не Шерлинг, то…". И никто не возразил, что, если бы не Шерлинг, не было бы ни КЕМТа, ни славы, ни успеха.
Гастроли КЕМТа в Сочи были для меня как главного режиссера последними. И это, смею утверждать, послужило началом гибели КЕМТа. Даже мои недруги, а их немало, признают, что я был душой театра, заводилой. И когда КЕМТ остался без этого заводилы, колесо его творческой жизни стало крутиться все медленнее, медленнее… и остановилось.
Удавка затянулась
Я много и мучительно думал, старался понять, почему в наших взаимоотношени-
ях с труппой наступил момент, когда творческая и человеческая пружина, накрепко связывавшая нас, вдруг лопнула и мы оказались на противоположных ее концах. На одном я, почти в полном одиночестве, на другом- значительная часть бывших моих единомышленников во главе с Михаилом Глузом. О нем отдельно. Сначала о труппе. Раздумывая над причиной нашего "развода", я пришел к однозначному выводу: труппа от режиссера Шерлинга устала. Да, мы вместе росли, вместе взрослели. Но я строил театр, будучи уже состоявшимся режиссером, и потому стал незыблемым авторитетом для артистов, лишь начинавших свою карьеру. Прошло время - подросли в моих руках и они,
хотя творческая дистанция между нами не сокращалась: выращивая актеров, я неизбежно рос и сам. Мои требования к ним становились все жестче: я знал, что именно взыскивать с них, и знал, что они уже могут это выполнить. Поначалу их прельщало одоление новых высот, потом… Потом они решили, что брать эти высоты не обязательно - успех, слава и без того неизменно сопутствуют им. Шерлинг с его постоянной опекой, требовательностью, строгостью, дисциплиной попросту надоел.
Взамен непрестанно бурлящего утомительного творческого процесса захотелось спокойной рутинной жизни. И человек, готовый дать труппе вожделенный покой, - вот он, рядом, только позови.
А Михаил Глуз? Почему сломались наши отношения творческих соратников и близких друзей?
- Почему же разошлись? - вспоминает Михаил Семенович в беседе с корреспондентами газеты "Форвертс". - У него скопилось, у других скопилось… Это все равно что прожить с любимой женой, а потом с ней развестись… Не хочу комментировать.
Не хочу комментировать и я. Замечу лишь, что и разводятся по-разному. Случается, бывшие супруги остаются друзьями. Одно время я думал: причина гибели нашей дружбы в том, что все, что мы могли дать друг другу, мы дали. Все, что могли творчески получить друг от друга,- получили. И наступил момент, когда оба иссякли с идеями по отношению друг к другу. Видимо, слишком много выплескивали из себя, гораздо больше, чем обычные люди. За год мы сделали пятилетку.
Так я думал.
Думал, когда морозным декабрьским днем 1984 года летел в самолете из Москвы
в Хабаровск на заседание крайкома пар тии, где меня с треском сняли с работы. "Контора" Горина сумела-таки отыграть свое: спровоцировав скандал с работником ГАИ, меня обвинили в оскорблении его словом и действием и осудили на год исправительно-трудовых работ. (Я отбывал их по предложению Андрея Гончарова в его театре в качестве режиссера-постановщика.) Естественно, такой скомпрометировавший себя "уголовник" не мог возглавлять государственный театр! Вдобавок к этому меня обвинили во всех смертных грехах, вплоть до морального разложения и принуждения актрис КЕМТа к сожительству.
Думал, пока не увидел в том же самолете Глуза, прятавшегося от меня за спинами других пассажиров.
Пока мы не встретились в приемной Черного, не столкнулись в дверях зала заседаний крайкома: я выходил освобожденный от занимаемой должности по п.1
ст. 254 КЗОТ РСФСР- "за грубое нарушение трудовых обязанностей и недостойное поведение", а Глуз входил, чтобы занять мое место. Место, которого он упорно добивался, еще представляясь моим другом.
Эпилог
Прошло двадцать лет. Много разных событий произошло в моей жизни - удачных и неудачных. Спасаясь от преследований КГБ, я вынужден был жить за границей. Побывал в Англии, США. Ставил спектакли, шоу в театрах и на эстраде Норвегии. Мои "покровители" не оставляли меня в покое и там - то и дело сталкивали лбами с Валерием Павловичем Гориным, который неожиданно возникал рядом и уговаривал вернуться. Зачем я был им нужен? Лишь в начале 90-х, когда небо над Россией просветлело и горины навсегда исчезли из моей жизни, я вернулся. Организовал в Москве театр "Школа музы-
кального искусства". Мы
поставили и показали ин-
тереснейший мюзикл
"Помилуй", который при-
влек внимание не только
московского зрителя, но
и американских продю-
серов. Театр пригласили
на гастроли в Америку,
всю группу - тридцать
пять человек. В Москву
вернулись впятером: моя
жена Олеся, два гримера,
костюмер и я с микроин-
фарктом. Мои артисты
были подготовлены на-
столько высокопрофес-
сионально и были так не-
ординарны, что всех их
растащили американ-
ские театры и эстрада.
Я запер дверь своего театра и вернул ключ хозяину помещения. Как бы поставил точ-
ку на своей дальнейшей театральной судьбе. Приказал себе все забыть и начать иную жизнь - тоже творческую, но абсолютно другого плана. И я ее начал. Нашел силы.
Сегодня я - бизнесмен. И не последний в так называемом среднем бизнесе. У меня прекрасная жена - Олеся Шерлинг, талантливая пианистка, красавица и, главное, мой единственный, верный друг. У нас трое чудесных детей: Шурочка - ей двенадцать лет, и она уже лауреат нескольких международных детских вокальных конкурсов, Мотя - ему три года, и Маняша - ей скоро исполнится два. А моя старшая дочь Анечка закончила Московский институт международных отношений, работает.
Я владею полным "джентльменским набором", полагающимся успешному современному российскому бизнесмену. Казалось бы, живи да радуйся. Ан нет! Не верьте мне, когда я говорю, что поставил точку на своей театральной судьбе. Я думаю о театре, мечтаю постоянно, ибо только в нем заключена моя настоящая жизнь.
Когда-то в далекой юности, изъятый злыми силами из большого балета, я и во сне продолжал танцевать. Так и сейчас по ночам мне снится и снится, как я, маленький цадик в белом, выскакиваю в сумасшедшем прыжке на сцену и в диком вихре танца увлекаю за собой и артистов, и зрителей. Или выхожу на сцену с огромным барабаном в руках, произношу свое командное "И…", и начинается репетиция. Олеся будит меня, сует мне в рот таблетку, я погружаюсь в тяжелый, тревожный сон. Снятся мне спектакли, поставленные в театрах Гончарова, Завадского, в русском Таллинском… Но чаще всего КЕМТ. Его потеря остается болью всей моей жизни. И не только потому, что он, мой "кровный сын", был на-
сильно отнят у меня. А потому, что его отдали в руки, не умевшие театр делать, и тем самым театр погубили. В жалких потугах уцелеть приглашался то один посредственный режиссер, то другой, в панике снимались с репертуара спектакли, поставленные неимоверным трудом всей труппы, разбегались артисты. Ушел даже Яков Явно, на которого ставились все эти спектакли. От КЕМТа, на представления которого когда-то ломились зрители, осталось местечково-провинциальное шоу "Тум-балалайка". Его играют четверо бывших кемтовцев во главе с Михаилом Глузом, получившим таки звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, о котором он когда-то так мечтал, а теперь и звание Народного артиста России. В прошлом, 2002 году, когда эта "Балалайка" в очередной
раз выступала в нью-йоркском "Миллениуме", американские газеты писали, что к концу первого отделения в зале не осталось и трети зрителей.
Нет, не злорадство испытал я, узнав об этом, а нестерпимую боль от гибели подлинного произведения искусства, каким был некогда КЕМТ. Кому и почему же понадобилось театр уничтожить?
Вопрос этот двадцать лет не давал мне покоя. Ответ могли дать только два человека: бывший генерал КГБ Филипп Бобков и бывший первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС Алексей Черный. Я выбрал второго. Разузнав телефон его дачи в подмосковной Балашихе, позвонил, представился:
- Снятый вами с работы Шерлинг, бывший главный режиссер Камерного еврейского музыкального театра.
Алексей Клементьевич усмехнулся в ответ:
- Помню тебя. Хотя и было это давненько.
- Надо бы встретиться, - попросил я.
Голос Черного посуровел:
- Я никого не принимаю. В Москве не бываю. И чувствую себя неважно, мне восемьдесят лет…
- Алексей Клементьевич… - продолжал я просящим тоном. Но Черный прервал меня:
- Позвони в другой раз, - и повесил трубку.
Честно говоря, я был обескуражен. Почему-то не сомневался, что Черный все же захочет встретиться со мной. Не знал тогда, что у него недавно трагически погиб единственный сын, а незадолго до этого скончалась жена, и он заперся на своей балашихинской даче, отгородившись от всех и вся. Я позвонил ему второй раз, третий…
- Собственно, зачем я тебе вдруг понадобился? - наконец заинтересовался Алексей Клементьевич.
- Книгу пишу, воспоминания. Хочу, чтобы все в ней было правдиво, - объяснил я. - А без вас…
- Книгу, говоришь? Правдивую? Черт с тобой, приезжай завтра часам к двенадцати, - и продиктовал мне свой дачный адрес.
В назначенное время я уже звонил в калитку глухого забора, за которым виднелся
трехэтажный дом. Видимо, Черный построил его, пока занимал высокую партийную должность. Грошовой, обычной пенсии по старости, назначенной новой российской властью бывшим сатрапам советской власти за долгие годы верной службы, и на деревянную бытовку не хватило бы.
Калитку отворил мне кряжистый крестьянского вида старик в картузе. Ничто, кроме жесткого взгляда, не напоминало некогда всесильного феодала огромного Хабаровского края.
- Не узнал? - требовательно спросил он, вглядываясь в меня.
- Узнал, Алексей Клементьевич, - солгал я.
- Врешь! - отрезал он. - А я бы тебя не узнал. Лысый, в очках. Только глаза хитрющие, как прежде. - Черный запер калитку и тут же стал отворять ворота: - Заводи, - указал рукой на мою машину, - мотаются тут взад-вперед всякие, заденут. На "мерседесах", значит, ездишь?
- На "мерседесах", - подтвердил я.
Сел за руль, въехал во двор. Достав из багажника полиэтиленовый пакет, в котором лежала коробка с бутылкой коньяка "Наполеон" и фрукты, направился следом за хозяином в дом. Собственно, в дом мы не вошли, а расположились в плетеных креслах у круглого стола на просторной, с распахнутыми окнами веранде. Не чувствовалось в доме тепла, женской руки.
- Вот так и живу здесь бобылем, - перехватив мой оценивающий взгляд, сказал Черный, видимо, чтобы избежать дальнейших болезненных для него вопросов.
Разглядывая этикетку коньяка, который я вместе с фруктами выставил на стол, заметил:
- Это ты зря. И врачи не разрешают. Разве что по рюмочке? Была не была!
Черный поставил на стол рюмки, тарелки и огромное блюдо свежих огурцов и помидоров.
- Собственные. Выращиваю. А скажи, для кого?- И словно озлившись на самого себя на эту секундную слабость, осекся:
- За встречу! - и поднял рюмку.
Осушив ее, крякнул: "Хорош!", закусил помидором и, переходя на деловой лад, спросил:
- За какой же такой правдой ты пожаловал ко мне, Юрий Борисович?
- Три вопроса мучают меня. Первый - почему вы, когда я пришел к вам впервые в Хабаровске, поддержали мою идею о создании в Биробиджане еврейского театра? Вряд ли вами руководило особое расположение к еврейскому населению автономной области. Да и время для этого было неподходящее.
- В корень зришь, Юрий Борисович! Еврейский вопрос и вся эта ЕАО костью в горле у меня стояли. Ведь я еще до Шапиро, с 59-го по 62-й, был там первым секретарем обкома партии, всю подноготную знал. И как евреи оттуда бежали, и сколько их пересажали, и что никогда они в той глухомани жить не станут. Им эта "святая земля" вовек не нужна. Зря ее товарищ Сталин придумал. Но коль партия приказала, исполняй! Превращай в благодатный край, и чтоб идеология на высоте, сионисты бы не внедрились. Мы и превращали; знали, для своих, русских, стараемся. Евреи рано ли, поздно ли - разбегутся. А когда ты со своей идеей возник, подумал: "А почему бы и нет? Пусть будет в Биробиджане свой театр, вроде бы национальный. Два-три разочка сыграют на еврейском, убедятся, что его никто не понимает, и перейдут на русский. И биробиджанцам хорошо,
и нам для доклада в ЦК: "Исполняем, стараемся"". Кто знал, что ты таким своевольным и упрямым окажешься?
- Вы вообще обо мне ничего не знали, - заметил я. - Как же вы, такой опытный руководитель, назначили главным режиссером будущего театра незнакомого человека?
- Ошибаешься, Юрий Борисович, - усмехнулся Черный. - Едва ты из кабинета Шапиро вышел, он позвонил мне: человек, мол, какой-то странный из Москвы пожаловал. Ни денег, ни машины, ни должности не просит, приехал с интересной идеей. Так что, пока ты в поезде "Биробиджан-Хабаровск" телепался, я уже всю твою биографию знал.
- Что ж вы узнали, Алексей Клементьевич? - полюбопытствовал я, впервые поняв, каким же был дураком, решив тогда, что обыграл двух таких партийных волков, как Черный и Шапиро.
- Узнал, что талантливый режиссер, что ставил спектакли в московских театрах, что о тебе положительно отзывается сам Сергей Михалков, а его мнение авторитетно. Что несколько чокнутый, но энергичный и, взявшись за дело, доведешь его до кондиции. И "контора" против твоей кандидатуры не возражала. Но главное в другом. Не поверишь, театр был моим давнишним увлечением. Это моим-то, Черного! "Черной смертию" - как звали меня втихаря подчиненные, думали, не знаю. Школьные годы я провел в поселке Хутор Михайловский в Полесье. Но даже в этой глухомани появлялись изредка профессиональные артисты. По сей день помню - сколько лет прошло! - к нам из Москвы на
праздник двадцатилетия революции приехала группа оперных артистов. Пели из "Пиковой дамы", "Фауста", других знаменитых опер. С каким восторгом слушал их! В то время я уже был ведущим артистом школьного драмкружка, играл заглавные роли в "Цыганах" Пушкина, "Луне слева" Билль-Белоцерковского, хирурга в "Платоне Кречете" Корнейчука, Героя в "Славе" Виктора Гусева.
Я хотел было высказать восхищение обширным репертуаром самодеятельного артиста, но Алексей Клементьевич сделал мне знак рукой не перебивать его:
- Спектакли мы ставили в местном клубе при полном зале. Нам дружно аплодировали, и мы чувствовали себя на седьмом небе от восторга. А мне все в один голос предсказывали будущее артиста. Я был буквально влюблен в театр, запоем читал "Моя жизнь в искусстве" Станиславского, мечтал поступить в ГИТИС. А поступил в Химико-технологический имени Менделеева. То ли усомнился в своих творческих способностях, то ли взяли верх прагматичность, здравый смысл и увлеченность химией в последних классах…
Артист из меня, как видишь, не получился, но театр!.. Ни одного интересного спектакля не пропускал ни в Москве, когда приежал туда, ни в Хабаровске… А тут появился ты. Мысли, идеи, эмоции! Ты понравился мне. Правда, половины твоей тарабарщины я не понял, да это и не обязательно было.
- Чем же я вам понравился - длинноволосый, стиляга, болтун?
- У тебя была идея! Ты был ею одержим. А меня окружали людишки, которые смотрели мне в рот, каждое слово ловили и директивой делали. А у самих… - Черный выразительным жестом постучал себя костяшками пальцев по лбу и продолжил:
- Твоя идея о театре в Биробиджане пришлась мне по душе, и я связался с заведующим отделом культуры ЦК КПСС Шауро - может, помнишь такого?
Я помнил. Однажды, после моих настойчивых писем-жалоб на отсутствие гастролей, Шауро пригласил меня к себе на совещание чиновников из министерств культуры СССР и РСФСР. Мы ожидали в приемной, а из-за неплотно прикрытой двери кабинета доносилась музыка "Уздечки", переписанная с пластинки на магнитофонную кассету. Приглушенная, она продолжала звучать во время всего совещания. Более того, встречая нас в дверях своего кабинета, Василий Филимонович произнес несколько приветственных фраз на идише, чем поверг меня в шок. Так, под музыку "Уздечки", он посоветовал присутствующим не только смириться с фактом существования КЕМТа и Шерлинга, но и помо-
гать нам. Позже я узнал, что Шауро был родом из Витебска и чуть ли не внучатым племянником Шагала.
-Шауро обрадовался предложению о театре,- продолжал между тем Черный.- Сказал, что оно как нельзя кстати. Что международная общественность обвиняет нас в государственном антисемитизме, и создание еврейского театра может стать одним из весомых опровержений этому обвинению, осложнявшему политическое и экономическое положение нашей страны на международной арене. А с этим нам волей-неволей приходилось считаться. Похвалив меня за инициативу, Шауро доложил о ней позже самому генеральному.
И это зачлось мне в заслугу. Вот так, Юрий Борисович,- усмехнулся Черный,- когда ты впервые вошел в мой кабинет, вопрос о еврейском т еатре уже оперативно был согласован с инстанциями. Потому-то я так легко согласился подписать твою бумагу в ЦК, которую мы, естественно, соответствующим образом откорректировали. А когда мне сообщили, что постановление Секретариата ЦК КПСС подготовлено, я, не дожидаясь его утверждения, распорядился зачислить тебя исполняющим обязанности худрука Хабаровской филармонии, чтобы ты не откладывая приступил к созданию театра. Так ведь?
- Так, - подтвердил я, обескураженный услышанным.
- Я наблюдал за тобой издали, одобрял твои действия и подставлял свое плечо, - охотно рассказывал Черный.
-Думаете, я этого не понимал? Шапиро никогда бы не осмелился потратить на нас столько государственных средств. Чего стоила одна реконструкция здания на Таганке! А декорации, костюмы, аппаратура, наши гастрольные вояжи, повышенная зарплата артистам!
- Да, немалую копейку! А иначе как? Думаешь, как ваш театр в ЦК называли? Шерлинга? Шапиро? Театр Черного! И значит, первоклассный. Престиж хозяина края! Я свой престиж держать умел! А денег в моем личном распоряжении… - Черный запнулся. - Ладно. К делу не относится. Разоткровенничался. Что еще? Спрашивай, пока память стариковскую не отшибло.
И я спросил:
- Почему вы не сняли меня с работы, когда я самовольно привез театр в Москву?
- А зачем? - пожал он плечами. - Во-первых, ты молодцом поступил: в один вечер все иностранные послы узнали, что в СССР открылся еврейский театр, а статья в какой-то американской газетенке…
- "Нью-Йорк таймс", - подсказал я.
- …оповестила об этом весь мир. Вспомнил, мы еще в ЦК смеялись: "Еврейскому театру зеленую улицу… через Старую площадь".
- Ну и циники! - не сдержался я, и Черный прикрикнул на меня прежним голосом "первого":
- Угомонись, Шерлинг!
- Что же во-вторых?
- А мне понравилось, что ты, молокосос, не побоялся самого Черного! До чертиков надоели окружавшие меня подхалимы, трусы, работнички "что прикажете?".
- Но общественное мнение… - попытался возразить я.
Черный перебил:
- Плевал я на общественное мнение! Судьба театра и твоя собственная зависела только от меня, единовластного хозяина края.
- Но вы все же не решились снять меня и тогда, когда я ослушался вас и отказался изменить финал спектакля "Тевье из Анатовки"… - Я настойчиво пытался восстановить версию событий, сложившуюся в моем сознании за все эти годы.
- Не "не решился", а не за-хо-тел. Мне нравился спектакль, нравилось, что ты осмелился не подчиниться мне. Такой вот Черный - самодур!
- Потом-то вы меня сняли, да с каким треском!
- Я бы не снял… - Черный помолчал, словно раздумывая, сказать ли мне правду. И решился: - Все партийные функционеры обязаны были подчиняться единой силе - это "контора". Ты поразительным образом сумел настроить ее против себя.
- Да, знаю, многие обвиняли меня в том, что спектакли КЕМТа склоняют евреев к эмиграции в Израиль…
- Что до меня, так я б их отпустил за один день всех - и самых умных, и самых талантливых!
"А я и не подозревал, что Черный такой антисемит", - отметил я про себя, а он между тем продолжал:
- Дело не в твоих спектаклях. Ты раздражал "контору". Слишком сложный, тебя не понимали. А людей непонятных "контора" не любит. Я долго оберегал тебя, но ты повел себя неумно. Знал же, что у тебя, как во всех советских театрах, есть соглядатай. На твоих глазах с ним сблизились люди, которым ты мешал. И посыпались на тебя донос за доносом: то дал интервью иностранному корреспонденту… то к тебе приходят евреи и ты ведешь с ними беседы на сионистские темы… то тебя видели в синагоге…
- Чушь какая-то! - возмутился я.
- А ты попробуй доказать, что чушь! Хоть раз ты пришел ко мне за советом, за поддержкой? По Кочемасовым да Шауро бегал. Да они б без меня… - Он пренебрежительно отмахнулся. - Ничего ты, Юрий, во взаимоотношениях наших партийных руководителей не понял. Кто, мол, такой Черный? Сидит себе в своем Хабаровском крае… - Жестом остановил меня, когда я попытался было возразить.
- Молчи, молчи! Все знаю! Разозлился я на тебя. Я добрым мог быть, добреньким же - никогда! А тут дружок твой Глуз, стоило мне или Шапиро появиться в Москве, ловил нас чуть ли не в депутатской комнате аэропорта, наговаривал на тебя всякую дрянь и убеждал назначить его директором и главным режиссером вашего театра. Добился. "Контора"
подсобила. И развалил театр.
Алексей Клементьевич взглянул на часы и заторопился:
- Всё! Солнце садится, пора поливать грядки, - и неожиданно спросил: - Евреям теперь всё дозволено: и песни свои петь, и губерниями командовать - что ж ты-то новый еврейский театр не откроешь?
- Я б открыл, да нет со мной рядом такого вот Черного,- ответил я шутливо.
- Да, Черный когда-то… - Он крепко сжал свой широкий кулак и поднял его вверх, словно пригрозил кому-то. - Войско мое подхалимское разбежалось, новым хозяевам прислуживает. А я вот огурцами командую. Сажаю, выращиваю - для кого? Дочка с детьми за границей, супруга скончалась, сына… не уберег, - он тяжело поднялся, нахлобучил свой картуз.
Нет, этот крепкий русский мужик, этот маршал огромного Хабаровского края, которым он командовал двадцать лет, став безоружным рядовым, не сломался. Даже личная катастрофа не превратила его в согбенного старика. Непреклонная воля вернула его к истокам рода, к крестьянскому труду, который был ему сейчас во спасение.
Набрав из таза полный пакет зеленых, только что с грядки огурчиков и красных, один в один, помидоров, он сунул его в мою машину и, покровительственно похлопав меня по плечу, заключил:
- Не огорчайся, Юрий! Былое давным-давно быльем поросло. А дряни человеческой, поверь мне, что воды в Великом океане.
На этом я обрываю повествование. Пройдет время, и я, быть может, возьмусь за вторую часть этой книги.
ИЗ КНИГИ 2: "ШУТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ХХ ВЕКА
Совесть
Наступали 1990-ые. Годы надежд и безверия, заманчивых проектов и сомнительных дел, переоценки и крушения ценностей, годы великого словоговорения, коррупции, бандитизма и воровизма, обнищания и бездуховности, и я…
- А зачем, о чем, собственно, ты пишешь эту книгу?- спросил Голос.
Я узнал его - мой собственный. Ловко бегавшие по клавиатуре компьютера пальцы споткнулись, замерли:
- Как, "зачем"?-
- Это что - жизнеописание неудачника?- допытывался Голос.
- "Неудачник"?! Я?! Заслуженный деятель искусств?! Успешный бизнесмен! Признанный в мире режиссер, хореограф, композитор!
- Какой ты, к черту режиссер, когда у тебя нет своего театра?!. В другие не приглашают. В книге жалуешься: злой рок, злой рок! Мало ли кого он преследует, не каждый же пишет об этом.
- Но, не каждому и дано Свыше столько, сколько мне.
- "Талант"! "Гений"! "Избранный"!,- издевался надо мной Голос
- Да, талант! Да, избранный! Да, не такой, как все!.
- Что ж мешает тебе? Гнусный характер? Неумение слышать людей, ладить с ними, уважать? Рядом с тобой - одни пигмеи?.. Представь, что произошло бы с человечеством, если бы оно состояло из одних "шерлингов"?!
- Смеешься? Тогда почему, объясни: десятки лет мне рукоплещут, говорят, - талантлив, и тут же обзывают "слоном в посудной лавке"? Что, не вписываюсь в обывательскую когорту? Поспешил родиться? Своим творчеством опережаю время? И потому, естественно, меня не понимают, меня опасаются, отвергают?..
- Сходил бы ты в синагогу или в церковь и спросил Его: за что, одарив так щедро, подвергаешь горьким испытаниям? Просил бы у Господа спасения. Пожаловался бы Ему. Как в книге…
- Моя книга, что - жалоба?! Стон, вопль о помощи, призыв к расплате за несправедливость?! Нет, я не слабак! Жаловаться людям?! Уповать на сочувствие?! Сам защищаюсь. Сам пробиваю дорогу! Могу все!
- Подумаешь, "Маккавей"!
- Да, Маккавей. Его кровь в моих жилах.
- Потому-то так отчаянно ринулся на помощь "своему народу"? Превосходный-таки советский лозунг!
- Да,да, да! Какой, к черту, лозунг?! Мой народ нуждался в помощи. Старался сделать все, что было в моих силах. Моими спектаклями помочь ему воспрянуть духом. Ощутить себя гордым, равноправным с другими народами, а не рабом в советских каменоломнях.
- Ну, ты прямо-таки "Мессия"! "Моисей"! И куда ты его "вывел", народ свой?
- Туда же. После моих спектаклей многие распрямили спины, отвоевали свое право жить на исторической родине, а не в антисемитском СССР. Разве этого мало?..
- И тебя поблагодарили за это?
- Еще как! Усадили голой задницей на раскаленную сковороду.
- Что ж, в порядке вещей. Созвучно времени. В России два главных раввина-антагониста. РЕКи, ФЕОРы, КЕРООРы, сотни общин и общинок, дерущихся между собой за доступ к карману еврейских олигархов, забывших урок "золотого тельца", погубившего древний Израиль. Раздирая сегодня на части златоносную тушу России, не думают, что расплачиваться за это придется не им, - они загодя забаррикадируются на своих испано-франко-английских виллах - а народу. А он, народ твой, спокойно взирает на происходящее и принимает нищенские подачки - тощие продуктовые посылки с барского стола.
- Но, это - другая история…
- Ошибаешься, одна, одна. Ты написал об этом, но недостаточно.
- Швырну-ка рукопись в камин и забуду о ней! Вон как пылает огонь, секунды - и пепел. Сыграю такой псевдо-гоголевский спектакль, чтобы потомки говорили: "восстановлена рукопись Шерлинга, найденная в его "Сарагосах"… Но я не Гоголь, а потомкам на фиг "восстанавливать рукопись Шерлинга". Имени моего не вспомнят.
- Хочешь, чтобы вспоминали?.. Славы? Букеровской премии? Не получишь ни того, ни другого. Станет бестселлером - и ты обогатишься? Но это не "Приключения Шерлока Холмса", не "Код да Винчи", не "Похождения бравого солдата Швейка". И не детективная книжонка из произведений "М. и Ко", которыми взахлеб зачитывается в метро наш усредненный читатель. И не о том, как "…его рука нежно сползала ей в трусики" из "Рублевки Live".
- И, тем не менее, - детектив. Рассказ об ограблении. Об ограблении дорованнного Свыше человеку бесценного интеллектуального и творческого богатства. Грабило его же государство, его же общество… А мало ли грабил себя сам?.. Безбожно, безмерно! И не только себя. Порой, сам того не сознавая, молчаливо потакал духовному ограблению своей страны. И сегодня ужасаюсь, проходя по вырубленному старому Арбату, превращенному в антикварную лавку для иностранцев; по Новому Арбату - сплошному казино. А переключая программы ТВ, вижу: чем меньше голос певицы, тем больше она оголяет свое тело. И вдруг с ужасом начинаю понимать шиитов и суннитов, требующих укрыть одеждами женское тело, чтобы оно вызвало вожделение у мужчин. А когда по городским улицам шастают голые бабы, то мужики становятся импотентами.
- Почему ж ничего не написал об этом? О том как российское ТВ умышленно оболванивает народ, чтобы он не задумывался над тем, что происходит в стране и не восстал против власти? Разлагает, ведет к погибели целые поколения? Как оно превратилось в бесплатный высокопрофессиональный бандитский мастер-класс?! Потому-то и врываются в синагоги антисемиты, убивают, режут прихожан в момент их святого общения с Господом.
- Обо всем сразу не напишешь, к тому же время опережает воспоминания; а не ведающим прошлого, не понять сегодняшнего и не построить будущего. И об этом моя книга. Чтобы помнили: в любой момент может наступить гетто. И не только для евреев, как ранее. Для любого народа. Для любой национальности. В первую очередь, для русских; сегодня "Мальборо" укладывает их навзничь, уничтожая русский дух, русскую ментальность и самобытность. С театральных подмостков я имел возможность не только громогласно говорить об этом, но и назидать.
- Кто ж дал тебе такое право - назидать?!
- На обложке моей первой книги цитата из "Торы": "С небес дал Он тебе услышать свой голос, чтобы наставлять тебя, а на земле показал тебе великий огонь свой, и слова Его слышал ты из огня".
Слушайте
ОСТРЫЙ УГОЛ
Тот, кто придумал мобилизацию, наверняка был хорошим бизнесменом. Ведь он нашел способ пополнять армию практически бесплатным расходным материалом!
декабрь 2024
ПРОЗА
Я достаточно долго размышлял над вопросом
«Почему множество людей так стремится получить высшее образование? Если отбросить в сторону высокие слова о духовном совершенствовании, о стремлении принести максимальную пользу Родине и обществу и прочие атрибуты высокого эпистолярного стиля, а исходить только из сугубо прагматических соображений, то высшее образование – это самый гарантированный путь для достижения своих целей в жизни.
декабрь 2024
Своим телом он закрывал единственный выход из комнаты, и обеими руками держал металлическую биту, на которую опирался как на трость. Странное зрелище.
-Итак... - протянул он на выдохе. - Вы, наверное, догадываетесь, почему мы здесь сегодня собрались?
декабрь 2024
В ПРЕССЕ
Как всегда в эти последние годы и месяцы, утро мое 1 ноября началось с новостей из Интернета. Читаю и украинские и российские сайты. В Литве это просто, в Украине сложнее (там РФ-ские сайты заблокированы).
декабрь 2024
СТРОФЫ
декабрь 2024