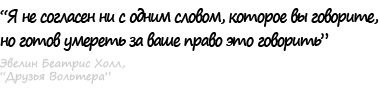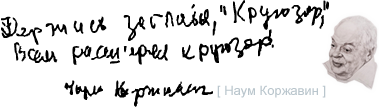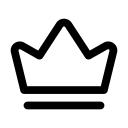ЗАПОМНИЛОСЬ
Миниатюры
Опубликовано 21 Января 2013 в 02:55 EST
УНТЕР-ДЕН-ЛИНДЕН

 Берлин, Унтер-ден-Линден, остановка Гумбольдский университет. Дождичек, зонтики. Стоим, автобуса ждем. Итальянские туристки, девчонки, тычут в карту: им надо туда. Ничем не могу помочь, увы. Ориентируюсь плохо: тяжелый случай топографического кретинизма. Ландшафтов не узнаю, карт не понимаю. Вам и не снилась такая свежесть впечатлений: все вижу как в первый раз. Могу заблудиться на собственной улице.
Берлин, Унтер-ден-Линден, остановка Гумбольдский университет. Дождичек, зонтики. Стоим, автобуса ждем. Итальянские туристки, девчонки, тычут в карту: им надо туда. Ничем не могу помочь, увы. Ориентируюсь плохо: тяжелый случай топографического кретинизма. Ландшафтов не узнаю, карт не понимаю. Вам и не снилась такая свежесть впечатлений: все вижу как в первый раз. Могу заблудиться на собственной улице.
Кроме меня и туристок, на остановке старик с клюкой. Он неожиданно подается вперед, вглубь остановки, и радостно предлагает свою помощь. Вам куда? Скажите название улицы, уж он-то знает! Туристки брезгают, жмутся в угол, инстинктивно не подпуская к себе старость, как заразную болезнь. Перевожу ему, перевожу им. Понять немецкое название от них невозможно, и я считываю его с карты. А, - радуется старик, - это просто. Он подробно и толково обьясняет дорогу. Двухсотый автобус, будет через четыре минуты. Совсем недолго ждать.
Такие хорошие девочки! Девочки с облегчением отходят на максимальное расР’Встояние от позорно дряхлого старика. С ними, с нами, такое не случится никогда. Они ищут мой сочувР’Вствующий взгляд. Чуть не подмигивают. Напрасно. Их солидарность мне льстит, но я успеваю себя поймать (редкая удача), и не поддаться. Герой Довлатова в "Заповеднике" полагает, что мораль давления не терпит. Она должна органически вытекать из нашей природы, а иначе мораль насильственна и, значит, аморальна. Утешил. Приятное сказал. Соврал, то есть. Всякая мораль насильственна и противоречит природе. Ничего нет противоестественней Евангелия. А из нашей природы органически вытекает известно что. Не стой рядом, захлебнешься.
Эти девочки естественны как олимпийские Боги. Не тронутые насильственной моралью, они еще не умеют притворяться.. Это у них общее с поэтами, минус одаренность, конечно. Нет ничего естественней отвращения юности к старости, живого к мерР’Втвому, здорового к больному. Мы все инстинктивно обходим мерР’Втвечину.
Туристки уехали на автобусе номер двести. Мы остались на остановке вдвоем со стариком. Сколько ему лет? Старый, очень старый. Трясется весь. Одет нехорошо. А мне куда? Я знаю, но он обьяснит еще раз. Откуда я? О, господи! Откуда он? Берлинец, коренной, настоящий, потомственный. Люблю ли я Берлин? Обожаю. О, да! А там вы были? А это посетили?
Он был в Берлине до войны, он был тут во время войны. Он никогда не уезжал. Войны... Опасная тема. Как спросить? Сияет, светится, такой радостный старик. Сколько ему тогда было лет? Семнадцать. Воевал ли? Нет. Он был молодой, совсем молодой, повезло. И отец не воевал. Отец был пастор, профессор богословия, да, да. Священнослужителей в армию не брали. Только те, что сами. Он тоже хотел как отец, но никак, он никак не мог. Не получилось. Он очень хотел в аспирантуру как отец, но война, война.
Смотрит на меня, сияет. А отец в Берлине был всю дорогу. Вот тут, вот тут - старик тычет клюкой в асфальт, в Гумбольде. А как же, когда бомбили? О, бомбили, как бомбили! Он помнит, он очень помнит. Под конец войны начали добровольцев из юнцов набирать, от пятнатцати лет, да. Дома обходили, агитировали. Были, которые рвались, глупые, дети, да?
Дети не боятся смерти, им только подскажи, за что умирать, так? Дети жестокие и бесР’Встрашные, они равно готовы убивать и умирать, им трудно обьяснить, они хотят верить. Когда никто уже не верил, давно не верил, дети все верили, назло взрослым верили. Гитлер на этом подростковом протесте и играл, да. На конфликте отцов и детей. А его отец запер, совсем запер, вот так, дома, да. Ему, малъчишке, обидно было, все в бой, а он дома. И в окно не вылезешь, высоко.
А как же, когда бомбили? О, так бомбили, так бомбили! Он помнит. Потом так бомбили, что дома уже нельзя было. И деваться некуда. Свои же захомутают. Тогда уже не до агитации стало. Тогда, если патрулю попался, форму на тебя раз, без примерки, какую есть, со свежего покойничка, оружие, и все, вперед. Им уже все равно было, возраст не проверяли, и двенадцатилетних хватали, и девочек, и мальчиков. В общем, и в Берлине оставаться было уже нельзя, и за город уже не вырваться. Пересидели они, из-за него, из-за дури его пересидели. Отец его все отпускать боялся, что он добровольцем уйдет, убежит то есть. Тогда у многих так было. Матери воют, а дети, подростки, из дома рвутся, не терпится им за фюрера умереть. Ну, и я туда же, дурак. Отца ненавидел, считал, что он трус. Стыдился. Подросток, дурак, дурак! Отец пастор был, пастор, понимаете? С Библией не расР’Вставался никогда. Наизусть знал.
Дом наш разбомбило, конечно, что вы! Теперь там все дома новые. Как будто и не было ничего. Нет, нет, конечно, ничего не узнать. Так они с отцом тогда к метро побежали, все тогда к метро бежали, прятаться. А он, дурак, решил улизнуть, в суматохе улизнуть, доказать всем, что он мужчина. Отцу доказать, себе доказать. За какую глупость умирают люди! Вы думаете, это я от старости так скукожился? Не, я и всегда такой мелкий был, хилый, неказистый. Смеется. И в кого только? Отец высокий был, статный, красавец, а он, вот, мелкота, узкоплечий, позор один. В семнадцать на тринадцать выглядел. Вот и решил, назло.
Но не улизнул. Не вышло. И это у него не вышло. Отцовский Бог не позволил. Бомба около них разорвалась, у самого входа в метро. Отца насмерть, а его контузило, сильно контузило, до сих пор, как видете, заметно. Смеется. Отца он мерР’Втвым не видел, Бог миловал. Он с тех пор ничего уже почти не видел, так, силуэты, тени, очертания. Или яркие цифры на табло, как вот тут, на остановке. Прожить можно, а в аспирантуру никак.
Но зато он никого не убил, благодаря отцу. Добился тот своего. Теперь, наверное, доволен на небесах.
О, наш автобус! Ему, как инвалиду, в первую дверь. Худой локоть, кость в рукаве. Тяжело оперся, как все слепые. Вот, спасибо! Какая вы хорошая.
Кондуктор не хочет брать с меня деньги за проезд, думает, что я сопровождающая инвалида, работник соцслужбы. Шофер понимающе улыбается. Старик уселся на первое сиденье, радуется, вертит головой.
-Вы тут?
-Тут.
-Я знаю город наизусть, все остановки и все маршруты, люблю кататься! Мне же бесплатно. Молодые думают: вот дурак старик, выжил из ума, не знает, что говорит. А все наоборот. Это молодой я был слепой и дурак. Да и глухой к тому же. Полный инвалид! Но Бог не дал мне пропасть. Уберег. Бог милостив. Раскрыл глаза. Такой ценой. Но мы же по хорошему-то не понимаем, так? Отца жалко, я его не стою. Но это в моих глазах, а в его-то я стоил, так? Иначе бы он не сделал того, что сделал.
-Вы выходите? Ну, дайте мне руку вашу подержать на счастье. На ваше счастье. Мне уже ничего не надо. Я счастливый. Я никого не убил. Поцелую вас. Жизнь прекрасна. Счастья вам, милая, милая. Всего вам самого-самого. Прощайте, прощайте. Приезжайте еще к нам в Берлин. Какой город! Великий город.
Я выхожу. Весь автобус притих. На меня сквозь слезы смотрит Рейхстаг.
БАЛКОН
Балкон. Она стоит твердо, несильно опираясь. Осанка, крепкая спина, густые пышные волосы. Лицо свежее, давление нормальное, пульс девический. Вся в чистом. Уход хороший, дом новый, занавески веселенькие.
Она стоит там каждый день, сосредоточенно-растерянно вглядываясь в то, что под ней, под балконом. Снуют люди, гремит трамвай. Она никогда не видела этой улицы. На углу вечная скорая. Ее обтекает, не касаясь, жизнь. Мощные арийские ребята вносят, выносят, катят, поднимают, вываливают, пересаживают, увозят, привозят. Но нежно. Уход.
Новый дом на самом углу оживленной улицы. На перекрестке светофор, огоньки, переход, булочная. Старались. Но жизнь вежливо топорщится и в зазорах между ней и домом дышит только персонал. Пустыня в оазисе. В окнах игрушки, при входе цветы. Еще немного и ясельки, еще немного и погост. И никто не виноват. И столько денег. И у нее ничего не болит и она будет жить долго-долго.
ИЗ ЦИКЛА "ВЕСНА В ЛЕЙПЦИГЕ"
В толпе, впереди, вся другая, волоокая, с профилем. Непомерно темны, расширены от звуков глаза. Она вся - наверх: ее цветок к его солнцу, к его чужому солнцу чужой музыки. Молода и прекрасна дева Корана. Забыты девочка, висящая справа, младенец, висящий слева, он, напирающий сзади, плешивый и низкий,с вывихом бедра. Она одна, впервые одна, нежно вырезана, отрезана от мягкой, липкой, тягучей, как сырая арабская лепешка, дремоты невинности.
Но уже мутно, толсто, тяжко, как ослепший циклоп, крутит он коричневой головой. Уже тянет, тащит, давит растревоженным жиром на прямой, гибкий, сочный росток ее предательства, ее новой, только что случившийся отдельности. Еще не понимая, с трудом, она поворачиваеся к нему, смотрит, и, не в силах, отводит, опускает, закрывает веки. Тонкой прохладной судорогой легли между ними нежные чужие звуки. На главной улице рояль. Шопен. Весна. Европа.
СЛУЧАЙ. ВЕСНА 2005
Мы бежали навР’Встречу друг другу. Переход на Наличной, зеленый свет, она быстро идет. Переход на Наличной, зеленый свет, я быстро иду.
Воскресенье. Великий пост. Я боялась опоздать на исповедь, год назад попался свирепый священник. Я бежала, глядя себе под ноги, пытаясь настроиться. Что это здесь такое? Зачем это? Люди в форменной одежде возятся посреди перехода с большим куском полиэтилена. Неважно, мимо.
Предпоследняя мысль: "как надоели эти работы на дорогах, вечно у нас все перекрыто." Последняя мысль: "И вечно везде грязь". Темная грязевая струйка приближается к моим нетерпеливым ботинкам. Она дымится. Она живая и красная. Она медленно струится из под полиэтилена вместе с золотыми длинными локонами. Чуть поодаль сумочка.
Никто не останавливает меня и не обращает внимания. Мрачные милиционеры заботливо и суетливо поправляют полиэтилен. Это только что было. Нет, никто не запомнил номера. Шофер маршрутки, куда я вскочила, не посмотрев на номер, и которая ехала не туда, сказал мне, что еще минуты назад теплый пар от дыхания еще поднимался к небу. Он сам видел. Шофер изменил маршрут и подвез меня к церкви.
В церкви служка, со знанием дела, заявила, что плакать тут нечего, раз погибла, значит так надо. Не нашего ума дело. Лицо в платке протянуло свечку. Знакомая прихожанка многозначительно: "Вы же ее не знали? Ну вот". Они улыбаются с пониманием, они знают ответ, они знают все ответы.
Нет, я ее не знала. Позже, прочитав на нашем доме объявление ее родителей, я узнала: "студентка, единственная дочь, кто видел…" Я не видела, я застала уже полиэтилен. Я ничем не смогу им помочь. Я не знаю секрета жизни и смерти. Я только знаю, что там, перед светофором, на белых полосках перехода, мрачные милиционеры бессмысленно, из какого-то странного, трагического стыда, поправляют на погибшей полиэтилен, тщетно пытаясь скрыть от равнодушно-любопытных глаз пряди светлых волос. И на том спасибо.
ПО ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ
- Дочка моя в сорок три бабкой меня сделала. В сорок три! Беспутная. Учила ее, а она - на тебе, бабка, расти. А какая я бабка, в сорок три? Вот и растила внучку до четырнадцати лет. Легко это? Нет, вы скажите? Теперь замуж вышла, внучку забрала. Нашелся же, дурак, взял ее с приплодом. Повезло ей. От одиноких баб проходу нет, а он, вот, нашу выбрал, долго, видать, думал. Яврей. Вежливый такой, проходите, садитесь. Это мне-то! Ну, я сяду, пусть подавится.
Вы ведь знаете, вежливые-то они вежливые, а сами - известно что. Ну, вы ведь знаете, какие они, явреи? Не знаете? Ну, я вам скажу! А то не убережетесь. Ведь их пока своими глазами не увидишь, не поверишь. Я вот, раньше не вР’Встречалась, а теперь скажу: всё люди правду про них говорят! Хитрые они. Мы против них дети малые. Ниче не можем. Что хотят они с нами, то и делают. Одно слово, хитрые.
Муж ейный учителем в школе работает. Физики! В этой, ну, за углом тут, в математической. Они там и все явреи, кроме уборщицы. Туда, если ты не яврей, то и не лезь, все равно не возьмут. И прально. Что они, дураки, что ли? Денег, конечно, немного он получает, зять-то, но если не пить, то жить можно? Можно. Вот я вам и говорю. А он и не курит! Страшный человек.
Нам их ни в жизть не обойти. Все равно они что - нить придумают так, что опять они в дамках, а мы там же, где и были. А все почему? Хитрые. Мать евонная, та еще хитрее. Хирург в больнице. Здеся, в больнице Ленина. Кардиолог. Очередь к ней, прям давка форменная. Народ сам под нож лезет. Все к Маримосевне хотят. Выживаемость, говорят, у нее высокая. Конечно, с покойника-то что возьмешь? На болезнях наших наживаются.
Они, скажу я тебе, насквозь нас видят. Ты еще и подумать ничего плохого не успел, а они всё уже, насквозь! Мамаша его как посмотрит на меня своими глазами ихними, боюсь, ей Богу боюсь! Страсть! Насквозь, думаю, стерва, меня видит, а чаю предлагает. К чему бы это? Молчит, глаза свои нерусские таращит и молчит. Родственники. И чего это они на наших женятся? Свои, видать, перевелись все. Вот и женются на всякой шелюди, вроде моей. Кровь себе портят.
А кровь у них особенная. Хитрая. Не поддается алкоголю. Он у них как бы сквозь проходит, а у нас за эти, как его, ну, за всё, в общем, зацепляется. И остается. Мы от него дуреем, а они наоборот. И все так: им на пользу, нам во вред. У них хоть все отбери, все че-нить найдется, а нам чего ни дай, все равно ниче не останется. А отчего? От доброты! Все от доброты нашей. Хитрости в нас нету, вот всякий нерусский у нас все и отбирает. Не яврей -так татарин, не татарин - так грузин. А нам все одно, пропадать. Ни за что. Так, по доброте душевной.
Слушайте
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
«Не так давно Владимир Зеленский был комиком в Украине…» Ну и что, что комиком? Президент Рейган играл в Голливуде роли дешевого ковбоя – и так прожил до 50 лет! И этот господин Рональд, «актер второго плана» и легкого кино-жанра, стал одним из величайших президентов США!
март 2025
СТРОФЫ
Первые стихи Седаковой появились в печати тридцать лет назад. С тех пор каждое ее стихотворение, перевод, статья, обращение-событие.
март 2025
ИСТОРИЯ
Чем же обернулось для самой этой «Страны рабов» убийство Великого Поэта на самом взлете его гениального дарования? Нетрудно догадаться, что она была им проклята и ровно через 100 лет, в годовщину его рождения в 1914г.началась Первая Мировая Война, которая стоила России несколько миллионов жизней и вскоре приведшая к её полному обнищанию и ещё большему количеству жертв в ходе последующих революции и Гражданской Войны.
март 2025
НОВЫЕ КНИГИ
Легенда о проволоке на пробке шампанского, знаменитой вдове Клико и любви русских к игристым винам!
Исторический нравоучительный анекдот. Граф Александр Васильевич Суворов: «Вот твой враг!»
Генерал М. П. Бутурлин. «Заставь дурака Богу молиться...»
март 2025
ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ДЕЛА
Причиной шока были трехзначные числа, обозначавшие количество сбитых самолетов членов антигитлеровской коалиции на Восточном и Западном фронтах ТВД. Выяснилось, что пилоты немецкой 52-й истребительной эскадры Эрих Хартманн, Герхард Баркхорн и Гюнтер Рахлл за годы войны сбили 352 (348 советских и 4 американских), 301 и 275 самолетов соответственно.
март 2025