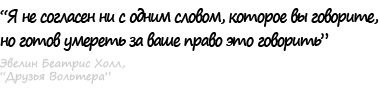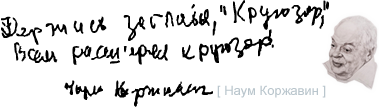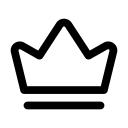Холодное солнце тёплой зимы
Опубликовано 31 Мая 2022 в 04:22 EDT
ЧАСТЬ I
Глава первая
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Праздничный день для майора следственного отдела Филатова не задался с самого утра. Всё началось с того, что утром жена сообщила ему о скором приезде её родителей, тестя и тёщи Филатова, и намерении встретить Новый год в узком семейном кругу. Планы на весёлый праздник тут же полетели к чёрту, а сбежать с предстоящей нудной церемонии не было никакой возможности. Из вялых пререканий с женой в очередной раз выяснилось, что Филатов совсем не любит свою семью, что он чёрствая скотина, отнявшая у бедной женщины её лучшие годы, и, вообще, нужно бы быть благодарным её родителям, которые когда-то пристроили его на хорошее место и вытянули в люди. После бурного монолога жена вручила мужу длинный список необходимых продуктов и приказала быть дома не позднее шести часов вечера. Выйдя на улицу, Филатов почувствовал ещё один неприятный подзатыльник праздничного дня. Автомобиль Филатова был погребён под толстым слоем снега, разгребать который ему было неохота, поэтому пришлось снова подниматься домой и звонить на работу, вызывая служебную машину. Жена коротко крикнула ему: «олух».
По дороге на работу Филатов подробно изучил выданный ему список и, дойдя до пункта «Спиртное – 1 бутылка», недовольно поморщился. Твёрдо решив взять две, а лучше три бутылки вместо одной, Филатов вышел из машины и направился в отделение. По пути к кабинету Филатов нос к носу столкнулся с уборщицей, несущей два пустых дребезжащих ведра. Сплюнув через плечо, майор милиции открыл дверь и тут же услышал за спиной радостный голос лейтенанта Дубина:
– Товарищ майор, мы взяли его!
Кого именно должны были взять и наконец-то взяли, Филатов не помнил, но, сделав удивлённое лицо, он обернулся к лейтенанту и сказал:
– Да ты что? Серьёзно? Отлично!
И тут же скрылся в своём кабинете. Там в относительной тишине он сел за свой стол и попробовал успокоиться. Академичность интерьера действовала на Филатова умиротворяюще. Тут было всё привычно и понятно. Папки с делами в высоком шкафу со стеклянными дверцами отливали холодом официоза. Майор любил подойти к ним и, пробежавшись глазами по названиям, вытащить одну, чтобы проверить что-нибудь. На настенных полках лежали пухлые фолианты мудрёных текстов по юриспруденции, теша самолюбие майора тем, что он их прочитал и законспектировал. На дальней стенке висел календарь, выпущенный к последнему съезду ЦК КПСС, с нарисованной звездой Героя Социалистического Труда, из-за которой выглядывали чьи-то кустистые брови. Рабочий стол с выдвижными ящиками и кожаное кресло, выбитое у начальства по случаю Дня следователя, дополняли привычный интерьер, в котором так легко работалось майору Андрею Филатову – сорокавосьмилетнему следователю по уголовным делам Ворошиловского района Москвы.
Годы в должности следователя научили Филатова в любых обстоятельствах придерживаться определённых правил, предписанных вышестоящими структурами. Он был прилежным исполнителем закона и всегда руководствовался своим и чужим опытом. Своей исполнительностью он заслужил репутацию хорошего, вдумчивого, хотя всё-таки не выдающегося следователя. Придирчивость к фактам и умение отличать важное от ненужной шелухи были, несомненно, его лучшими качествами, но врождённая лень и инертность с лихвой перечёркивали эти достоинства. Филатов считал, что следствие должно всегда подчиняться утверждённым правилам, и любое действие, не вписывающееся в их рамки, тут же выводило его из равновесия, внося сумбур и срывая планы. Дослужившись до майора, Филатов чувствовал, что это его потолок: идти дальше не было ни возможностей, ни сил, ни, самое главное, желания.
Следователь посмотрел на стол и увидел на нём папку с надписью «Дело № 85». Память тут же откликнулась на это приступом тревоги и страстным желанием закурить. А как иначе? Уголовное дело, заведённое вчера на мужчину, который в приступе ревности убил жену и её любовника и скрылся в неизвестном направлении. По опыту Филатов знал, что дело за версту разило очередным висяком, и это в конце года, когда для положительного отчёта приходилось закрывать глаза на всякую мелочёвку. А тут такое громкое дело! У Филатова засосало под ложечкой. Следователь не знал, что такое «засосало под ложечкой», но, как ему казалось, то неприятное чувство, которое он сейчас испытывал в области желудка, называлось именно так.
В дверь, не щадя нервов Филатова и собственной кисти руки, кто-то громко постучал. Так нагло и бесцеремонно мог стучать лишь один человек – лейтенант Дубин. Филатов подумал ещё и о жене, но та вообще не стучалась и заходила в кабинет мужа как в собственную ванную комнату.
– Войдите! – громко крикнул следователь и оторвал предпоследний лист настольного календаря, на котором красным цветом запылала надпись «31 декабря. С Новым годом!».
Дверь открылась, и в неё просунулась лопоухая голова лейтенанта.
– Товарищ майор, так что делать? Взяли же! – привычно растягивая слова, сказал Дубин.
– Кого взяли?
Филатов всё никак не мог взять в толк, кого же там взяли.
– Как кого? Ну, этого... Эдуарда Гусина. Тёпленьким сняли в его же машине.
Когда следователь наконец понял, о ком речь, он издал радостный вопль.
– Так что же ты мямлишь?! – проорал Филатов. – Где он?
– Тут, в КПЗ.
– Веди его!
Получалось, что его ребята поймали того самого человека, который вчера убил жену и любовника. Очевидный висяк как по мановению волшебной палочки превращался в раскрытое дело, а гнев начальства – в благодарность (возможно, даже с материальным поощрением).
Филатов откинулся на спинку кресла и напустил на себя усталый от нескончаемых важных дел вид. Потом, чуть подумав, добавил ещё сердитости.
– Вот, привел, как приказали! – бодро доложил помощник Дубин и потянул за собой закованного в наручники мужчину.
Гусин Эдуард Владимирович – невысокий, пухленький мужчина с редеющими волосами – испуганно вошёл в кабинет. На вид ему было лет тридцать с хвостиком. По пришибленному и помятому виду было видно, что ему доставляет невыносимые страдания пребывание в этом месте в окружении людей в милицейской форме. На мужчине была модная фетровая шляпа делового мышиного цвета и тёмно-серый костюм, отливающий металлическим блеском. Такие костюмы Филатов видел на высокопоставленных чиновниках, так что нищим задержанный не был. Его тёмно-карие глаза не могли остановиться на чем-то одном, они нервно бегали, обшаривая все углы помещения, и ежесекундно следили за каждым движением милиционеров, будто бы ожидая от них какой-нибудь пакости или даже физического воздействия. Причём последнего он явно боялся больше всего, потому что плохо переносил физическую боль. С первого взгляда Эдуард производил впечатление классического интеллигента, человека культурного и тихого. Про него можно было с ходу сказать, не заглядывая в личное дело: «Не состоял, не замечен, не привлекался». Зажав кисти рук между коленями, Эдуард под испытующим взглядом Филатова сидел на табуретке, стараясь занимать в окружающем пространстве как можно меньше места.
– Вы уже его допрашивали? – металлическим голосом обратился Филатов к лейтенанту.
– Так точно, товарищ майор. Задержанный всё отрицает.
– Ясно… – проговорил следователь и, к ужасу Эдуарда, что-то начеркал в бумагах.
«Такой заговорит у меня как миленький», – с удовольствием подумал майор и решил сразу взять быка за рога. Эдуард на быка никак не тянул, что лишь облегчало задачу.
– Чёрт бы вас побрал! Свалились на мою голову в канун праздника! Это ж надо, а? Именно в тот момент, когда мне надо быть в Управлении! – гаркнул грозным голосом Филатов и подумал, что фраза про Управление была явно неуместной.
– Но... но... Я ничего не понимаю! То, что произошло, – это ужасно, ужасно. Боже мой, моя жена... она... её больше нет! – Подавленный голос Эдуарда, дребезжа на каждом слоге, выражал крайнюю степень отчаянья.
– Ну, что вы упираетесь? Всё же понятно! Подписывайте признание и можете идти отмечать праздник в камеру.
Дубин развязно хохотнул.
Эдуард горестно вздохнул и, словно отгоняя от себя тяжёлые мысли, встряхнув головой, выпрямился:
– Я не буду ничего подписывать! – выдал он тоном Мальчиша-Кибальчиша на допросе у буржуинов.
– То есть вы не считаете себя виновным в убийстве вашей жены Лилии Гусиной и конюха Павла? – угрожающе прозвучал вопрос следователя.
– Я не помню.
– Как это не помните? Вы не помните, как их убивали?
– Я не помню, что убивал их, – втянув голову в плечи, тихо ответил Эдуард.
– Нормально... – развёл руками Филатов. – Вы не помните, как убили двух людей? Это такой рядовой эпизод вашей жизни, что одним больше, одним меньше – неважно?
– Дело в том, что в тот день я выпил, – забренчал наручниками Эдуард, показывая известным жестом стопочку. – А когда я выпиваю, забываю, что делал и где был. Нет-нет, это не значит, что я какой-нибудь алкоголик или напиваюсь до «белочки». Просто у меня такая реакция организма на алкоголь. Даже если я выпью пятьдесят грамм коньяка, наутро ничего не помню. Сам не понимаю, почему так происходит. Врачи говорят, что психологическое.
Следователь посмотрел на Эдуарда взглядом, каким трамвайный кондуктор взирает на пассажира, пока тот ищет в кармане будто бы затерявшийся проездной билет. Не отводя взгляда от задержанного, майор чиркнул спичкой и закурил. «Всё-таки три бутылки – многовато», – подумал о своём Филатов и продолжил:
– Странно. Ну, допустим… А почему вы выпили в тот день, хотя бы помните?
– Это помню. Я поругался с женой. Очень сильно поругался. Дошло до того, что я ударил её. Ни разу в жизни я не поднимал на неё руку, а тут как будто бес вселился. Не знаю, что на меня нашло.
Майор глянул на настольные часы, потом на список продуктов и, вздохнув, сказал:
– Ладно, начните сначала. Как вы познакомились со своей женой?
– Она была сущим ангелом, рождённым под кущами рая… – оживившись, несколько высокопарно начал Эдуард. – Мы познакомились этим летом в Сочи. Она была исполнена грации и гордости… эээ… словно чистокровная кобылка…
С этими словами Эдуард погрузился в приятные воспоминания давнего лета, проведённого на отдыхе в Сочи.
Глава вторая
ОЧИ ЧЁРНЫЕ
Струи морского воздуха обдували раскалённый песок. По нему, обжигая ноги, козочками бегали купающиеся гражданки. Крики чаек и удары волн создавали атмосферу свободной безмятежности и праздности. Толстопузые отцы семейств спали на шезлонгах, накрывшись кто «Комсомолкой», а кто и «Огоньком». Другие почтенные представители сильного пола сосредоточенно «забивали козла», устроившись под зонтиками, пока их прекрасные половины поджаривали на солнышке свои округлые бока. Всевозможная ребятня весело возилась среди этого муравейника, перескакивая через лежащих и сидящих, жующих и читающих граждан.
Пёстрый пляж незаметно переходил в такую же разноликую набережную. Под акациями гуляли разноцветные люди, которых легко можно было разделить на три группы. Первая часть отдыхающих, бронзовая от загара, вышагивала мерно и не торопясь. Она точно знала, куда идёт, и по этой размеренной вальяжности можно было угадать давно отдыхающих и даже уставших от этого отдыха граждан. Вторую группу составляли красные как раки от первого загара люди, которые, двигаясь чуть быстрее первых, иногда останавливались и спрашивали у бывалых дорогу. В третьей группе были граждане бледно-синюшного цвета, делавшие быстрые зигзагообразные перебежки от одного места к другому, восторженно стараясь в первый же день всё разузнать и охватить. Они с завистью смотрели на первую группу и посмеивались над второй.
«Ты не плачь, мой друг, что розы вянут.
Они утром снова расцветут.
А ты плачь, что годы молодые
Ведь к тебе обратно не придут».
Мелодия незатейливой песни под аккомпанемент гармони и бубна разливалась по набережной, и только у прибрежной кафешки её заглушали голоса дуэта, поющего из динамиков про вернисаж.
В парке, окружённый праздной толпой, в красивой позе, с кисточкой в руках стоял уличный художник. Он выводил на холсте какую-то особенно трудную линию, призванную быть началом очередного шедевра, которые во множестве валялись тут же на столе и продавались по три рубля за штуку. Умилённо сложив домиком тонкие брови, художник полностью отдавался работе, и лишь вопрос о цене иногда выдёргивал его из этого одухотворённого состояния. Эдуард, относящийся к третьей группе туристов и пока только жадно ловивший всем телом солнечные лучи, сложным манёвром рассёк толпу гуляющих и неожиданно даже для самого себя оказался около художника. Обведя быстрым взглядом работы, Эдуард хотел было уже уйти, но тут заметил небольшой рисунок, лежащий на самом краю стола. Это был даже не рисунок, а небольшой набросок карандашом грациозной кобылы тёмной масти. Гордый стан, большие глаза, белые зубы, непокорная волнистая грива говорили о чистой крови лошади. Её тонкая спина была изящно выгнута, завораживая красотой линий и изгибов.
В тот момент Эдуард даже не мог представить, как круто повернёт его жизнь этот маленький, нарисованный на скорую руку рисунок.
– Нравится? – спросил опустившийся с небес художник.
– Да, очень! Просто великолепно. Я обожаю лошадей. Готов на них смотреть и говорить об этих прекрасных созданиях всё время. Они так грациозны…
– Вы жокей?
– Я? Ну что вы? Нет. Я всего лишь директор магазина.
– В наше дефицитное время слово «всего лишь» к должности директора магазина не подходит, – подметил художник, улыбаясь.
– Ну, я не жалуюсь. Но всё равно, все материальные блага меркнут перед этим, – и Эдуард указал на рисунок.
– На самом деле я рисовал её с натуры, – смущённо заметил художник.
– В самом деле? И где же? Интересно было бы взглянуть на неё, – оживился Эдуард.
– Для этого далеко ходить не надо. Вот она стоит.
И художник махнул кисточкой куда-то в сторону многочисленной толпы.
Её невозможно было не узнать. Это была очень красивая молодая цыганка с вьющимися локонами густых чёрных волос, на которых игриво поблескивало полуденное солнце. Непокорная чёлка чуть прикрывала большие смоляные глаза, в которых поселились задорные смешинки. Белоснежная улыбка, точёные линии бёдер, лёгкие движения дополняли сходство с красивой лошадью благородных кровей. Она, улыбаясь совершенно детской улыбкой, протягивала прохожим билетики счастья, которые вытаскивал из коробки зелёный попугай, сидящий у неё на плече. Стоя на углу парка, где заворачивала дорожка, она своим весенним сиянием затмевала безликую толпу. По крайней мере в тот момент так казалось Эдуарду.
«Действительно похожа!» – подумал Эдуард, вновь переведя взгляд на рисунок.
Ему вдруг стало грустно. Грустно ему становилось всякий раз, когда он видел молодую девушку и понимал, какая пропасть лет пролегла между ними. Робкий и застенчивый по природе, он так и не научился обращаться с женщинами. Стоило ему заговорить с кем-то из противоположного пола, как всё лицо его наливалось пунцовой краской, а сам он превращался в заикающийся помидор, который спотыкался на каждом слоге и по пять раз повторял одно и то же. Эдуард очень страдал от этой своей особенности. Когда же он научился владеть собой, разговаривая преимущественно с женским персоналом своего универсама, оказалось, что теперь уже поздно и он безнадёжно постарел. Единственной женщиной, рядом с которой ему было просто и спокойно, была его мама – Любовь Александровна.
Любовь Александровна была из тех матерей, которые свято считают, что в жизни их детей ничто не имеет право происходить без их ведома. Её всеобъемлющая, бьющая через край материнская любовь стальными цепями приковала сына к пышной юбке, за которой тот нашёл своё тёплое местечко в жизни. Любовь Александровна твёрдо верила, что её Эдик если и не гений, то почти гений, а не согласиться с этим, по её мнению, мог только идиот. По своей природе она была мягкой и добродушной женщиной, но если дело касалось её ненаглядного Эдика, Любовь Александровна превращалась в свирепую медведицу, готовую начать атомную войну, лишь бы защитить своего сыночка и сберечь его для недостойного человечества.
Две недели назад Любовь Александровна пришла к неутешительному выводу, что её сын бледен. Навскидку вспомнив парочку страшных диагнозов, вычитанных из медицинских журналов, она, взяв сына под мышку, потащилась по врачам. После осмотра у первого врача Любовь Александровна осталась крайне недовольна, потому что тот нашёл её сына абсолютно здоровым. Высказав в красноречивых фразах, изобилующих уничижительными сравнениями, всё, что она думает про закоснелую советскую медицину, Любовь Александровна назвала доктора медицинских наук шарлатаном и повела отпрыска к другому светилу науки. Следующий доктор, который, по своему несчастью, слыл в глазах Любови Александровны умным врачом, подтвердил отменное здоровье Эдуарда, чем вызвал очередную порцию разоблачений в адрес многострадальной медицины. В этот раз разгневанная мать при оценке врача ограничилась клеймом «неуч». Третий врач, который принял Любовь Александровну и её сына, уже был предупреждён о воинственности женщины и её бескомпромиссном желании во чтобы то ни стало отыскать таинственную болезнь, мучившую её сына. После осмотра врач поцокал языком и, сделав озабоченное лицо, сообщил ошеломлённой Любови Александровне, что у её сына прогрессирующий «Syndromum fatigatio». Эффект от этой новости получился странным. Вместо того чтобы взволноваться за здоровье горячо любимого сына, мать обрадовалась и потом долго жала руку доктору. Внимательно выслушав врачебные предписания, Любовь Александровна сказала, что всегда доверяла отечественной медицине и, сделав подобающее случаю скорбное лицо, вышла из кабинета.
Страшный диагноз «Syndromum fatigatio», который поставил врач, на латыни означал лишь небольшую усталость. Больному были выписаны витамины и отдых на свежем воздухе. После покупки витаминов во весь рост стал вопрос о санатории. Они посовещались, и мать решила, что лучше всего поправлять здоровье под южным сочинским солнцем, и уже через два часа ехала домой с двумя билетами на поезд. Но тут в дело вмешалась судьба: у Любови Александровны умерла дальняя родственница, на похоронах которой нужно было обязательно отметиться. После долгих колебаний мать скрепя сердце отпустила сына в санаторий одного, и к пущей радости Эдуарда не грозилась приехать и проведать. Так, может быть, впервые в жизни Эдуард оказался предоставлен самому себе. Чувство свободы пьянило и дурманило. У него было такое ощущение, какое бывает у зэка, выбежавшего за колючую проволоку. Вдыхая курортный воздух полной грудью, Эдуард наслаждался тем, что можно было не чистить зубы по вечерам и не мыть руки перед обедом...
– Так вы берёте её? – Вопрос художника вывел Эдуарда из задумчивости.
– Кого? – удивился Эдуард.
– Лошадь, говорю, берёте?
Только теперь Эдуард понял, что держит рисунок в вытянутой руке, словно бы сверяясь с оригиналом.
– Ах да, конечно, беру. Сколько я вам должен?
– Рубль.
Эдуард торопливо расплатился с художником и направился к цыганке. На полпути он остановился и ещё раз окинул взглядом стройный стан девушки, подчёркнутый милыми оборками платья на тонкой талии. Поморщившись от очередного приступа комплекса неполноценности, Эдуард глубоко вздохнул и решительно пошёл на встречу со своей судьбой.
– Граждане отдыхающие! Не проходим мимо! Попугай гадает всем на счастье! Подходите и узнайте, что вас ждёт!
Эдуард сделал вид, что проходил мимо, и, замедлив шаг, обернулся к цыганке.
– Попугай и вправду счастье мне принесёт? – сказал он заготовленную фразу.
– Мой попугайчик ещё никому плохого не нагадал, – очаровательно улыбнулась цыганка.
– Ну, я не сомневаюсь. Просто я всегда думал, что это аисты приносят счастье.
«И почему именно аисты должны приносить счастье? Почему я сказал такую чушь? – Эдуард задумался о запутанной логической цепочке, сгенерированной собственным мозгом. – Ах, да… Аисты же приносят детей, а дети – это счастье».
– И сколько раз аисты вас уже порадовали? – на удивление легко разгадала тонкую метафору цыганка.
– Пока ни разу. Как-то не сложилось ещё.
– Ай-ай-ай, яхонтовый мой! Годков-то тебе уже много, пора задуматься о семье. Дай я тебе по руке погадаю. Всё скажу, как было, как будет.
Эдуард протянул предательски запотевшую ладонь.
– Вижу, ты одинок на этом свете… – задумчиво произнесла девушка.
– Ну почему же одинок? У меня есть мама.
– Не перебивай. Я вижу совсем другое одиночество. Но тебя ждёт встреча с женщиной…
– Да-да, знаю. Мы полюбим друг друга, поженимся и будем жить долго и счастливо, – вслух завершил классическое пророчество Эдуард.
– Нет.
Эдуард с удивлением посмотрел на гадалку:
– То есть мы не будем жить долго и счастливо?
– Я вижу пламя… – тем временем «страшным» голосом вещала цыганка.
– Что за пламя? Ох!.. не пугайте меня, гражданка. Может, это пламя любви? – с надеждой заглядывая в глаза девушки, спросил Эдуард.
Цыганка отпустила руку Эдуарда и с интересом заглянула ему в глаза:
– Может, и пламя любви.
Эдуард наигранно выдохнул:
– Ясно всё с вами. Сколько я должен?
– А сколько не жалко?
Эдуард протянул «трёшку», и цыганка, одарив Эдуарда лучезарной улыбкой, спрятала деньги куда-то в многочисленные складки пышного платья. Нужно было уходить. Стоять и глупо пялиться на красавицу становилось неловко.
– Ну, я пошёл… – указал через плечо направление предполагаемого ухода Эдуард.
– Рада была помочь, – ответила цыганка и переключилась на других гуляющих.
Уходить не хотелось. Хотелось стоять и просто смотреть на девушку, любуясь её блистательной красотой. В её больших глазах отражался мир, который всегда был так далёк от Эдуарда. Любовь, ревность, страсть – понятия, без которых невозможно было представить жизнь смертного, каким-то странным, несправедливым образом всегда обходили его стороной. Он ясно понял, что тридцать лет его пресной жизни с лёгкостью можно было обменять на один-единственный день любви этой богини. Эдуард стоял и чувствовал, как что-то внутри него выходит из глубокого анабиоза. Это что-то, большое и тёплое, пробивало скорлупу забвения и начинало светиться, заполняя сердце непонятной радостью. И по мере того как внутри светлело, весь остальной мир становился маленьким, суетливым фоном, который лишь мягко оттенял причину этого сияния.
Причина сияния тем временем стояла на прежнем месте и бойко торговала счастьем. Зелёный попугай деловито достал очередную карточку и, получив за это кусочек яблока, как-то осуждающе глянул на Эдуарда. Под тяжестью птичьего взгляда Эдуард вздрогнул и, примятый к грешной земле своими глобальными душевными переменами, поплёлся на пляж.
Если Сочи – это тоже «жемчужина у моря», то его пляжи – скопища человеческого планктона, каждый год мигрирующего к этим берегам. Прибывая в несметных количествах, они заполняют собой каждый квадратный метр тёплого песчаного пляжа, не говоря уже о шезлонгах и коронных местах под зонтиками. Копошащаяся, гомонящая, постоянно передвигающаяся внутри себя система людей, объединённая общей высокой идеей, называемой «поехать на юга».
Эдуард, думая о своём, ступил на территорию пляжа и тут же был поглощён в меру раздетой толпой. Дорога до воды по пересечённой телами местности заняла четыре минуты, в течение которых были раздавлены две лодыжки, один указательный палец и цветастая панама, оказавшаяся чьей-то головой. Дойдя до воды, Эдуард оглянулся в поисках хотя бы ста кубических сантиметров пустого пространства. Такое пространство было найдено на дальней оконечности пляжа рядом с волнорезом. Начался тернистый путь в сторону намеченного места. Оказавшись у волнореза, Эдуард снял с себя одежду и лёг лицом к солнцу, почувствовав при этом, как тёплые камешки приятно захрустели под его спиной. Надев солнечные очки, мужчина самозабвенно захрапел. Проснувшись через час, он с удивлением заметил, что его передняя часть стремительно ворвалась во вторую зачётную группу отдыхающих – «красных как раки», в то время как задняя часть продолжала прозябать в третьей, «бледно-синюшной». Решив подтянуть отстающую часть к общему знаменателю, Эдуард перевернулся и подставил под ещё высокое солнце запотевшую спину. В этот ответственный момент кто-то бесцеремонно встал между ним и вечным светилом.
– Молодой человек, не могли бы вы отойти и не заслонять мне солнце? – вежливо обратился к мужскому силуэту Эдуард.
Стоящий перед ним мужчина сделал шаг в сторону и уселся на песок. Только теперь Эдуарду удалось разглядеть этого человека. Рядом с ним на песке сидел сошедший с неба древнегреческий бог. Бог чего именно, сейчас Эдуарду было бы трудно сказать, но его античная внешность вызывала в памяти картинки из «Илиады». Тем временем бог, мило улыбаясь, смотрел на Эдуарда своими серыми глазами. Его идеально правильную голову обрамляли идеально вьющиеся одинаковыми колечками волнистые волосы, которые идеально ниспадали до широких плеч. Под бронзовой загорелой кожей бугрились стальные мускулы. Кубики пресса будто были сложены профессиональным каменщиком в четвёртом поколении. Особенную мужественность внешности добавляли мелкие кольца волос на груди, которые равномерно покрывали её от ключицы до ключицы, а затем аккуратной стрелкой направлялась к пупку. Рука Эдуарда вдруг сама потянулась к собственной груди, где у него тоже росли волосы. Все тридцать семь штук были на своём месте.
– Извините, я вас не заметил, – сказал незнакомец, и почему-то Эдуарда это не удивило.
– Дааа, людей-то сколько! Не протолкнуться... – продолжил мужчина. – В прошлом году здесь было народу намного меньше.
– Да, прямо вавилонское столпотворение! – решил блеснуть хотя бы кругозором Эдуард.
– Вавилонское что? – спросил греческий бог.
Это была маленькая, но всё-таки победа.
– Столпотворение.… Есть такой миф... Аааа, не важно, – небрежно закончил Эдуард, махнув рукой.
– Меня зовут Павел. Будем знакомы.
– Я Эдуард. – Они пожали друг другу руки.
– В прошлом году здесь было меньше народу, – повторил Павел, посмотрев на копошащуюся на пляже массу.
– А вы каждый год сюда приезжаете? – спросил Эдуард.
– Второй год.
– Счастливый человек. Можете себе позволить приехать и отдохнуть.
– А я не отдыхать сюда приезжаю – работать.
– Да? И где вы работаете?
– В цирке. Наше шапито каждое лето даёт концерты в Сочи, – буднично ответил Павел.
– Надо же! Очень интересно. Я люблю цирк.
– А кто его не любит? Мы, граждане Советского Союза, должны любить цирк. Ведь все в нём живём.
Откуда-то сверху, где начинался волнорез, мужской голос позвал Павла.
– Ну вот. Нелёгкая его принесла. Только вышел отдохнуть! – недовольно пробурчал древнегреческий бог Павел. – Делать нечего, нужно идти. Приходите к нам на представление. Наш шатёр раскинулся на пустыре недалеко отсюда.
– Спасибо за приглашение. Обязательно загляну, – пообещал Эдуард.
Санаторий «Электроника», в котором поселился Эдуард, был совсем новеньким. В коридорах ещё явственно ощущался запах краски и древесного лака, а в большом парке санатория иногда попадались скамейки с табличками «Осторожно, окрашено!». Современное многоэтажное здание гордо возвышалось над мысом Видный и сияло белыми боками. К услугам отдыхающих здесь были трёхразовое питание, киноконцертный зал, библиотека, летнее кафе, обеденный зал, зал лечебной физкультуры, а также, как прочитал Эдуард в брошюрке, «всевозможные услуги внимательных врачей». Особенной гордостью этого санатория была его новая современная методика лечения ангиологических больных с использованием гипербарической оксигенации. Из-за совершенной новизны не каждый лечащий врач мог с первого раза выговорить название методы, но обязательно считал своим долгом ввернуть в разговор эту высокую терминологию, даже если лечил геморрой. Кроме того, в санаторий завозили замечательную адлерскую иловую грязь, и с каждой информационной доски настойчиво призывали к посещению электрофореза с использованием этой животворящей субстанции. Обещали возвращение утерянных сил и молодости.
Вечерело. Огненные лучи морского заката окрасили номер в насыщенный оранжевый свет, который плескался на стенах, словно вступая в последнюю борьбу с темнотой. Приближалась чарующая южная ночь, наполненная стрекотанием сверчков и шелестом прибрежных волн. Свежий ветерок, играя занавеской, доносил с улицы запах моря и распустившихся магнолий. Крики чаек постепенно смолкали, уступая место трелям соловьёв, которые своим пением нежно убаюкивали счастливых отдыхающих.
Эдуарду было не до сна. Он лежал в своём номере и смотрел в потолок. Там, в кружевных тенях, отбрасываемых занавеской, разыгрывался спектакль прожитого дня. Главным героем был он сам, а его дамой сердца была молодая цыганка. Девушка пришла на пляж, чтобы окунуться в море. Воображение Эдуарда нарисовало, как цыганка лёгким движением сняла с себя платье, оставшись в пикантном купальнике, и, качая бёдрами, вошла в воду. Но что это? Она кричит и просит о помощи! Боже, она тонет! Все вокруг стали суетиться и бегать, но, конечно, никто не решался помочь бедной девушке. И тут на пляж въезжает сам Эдуард на белом коне. Его тело подтянуто и мускулисто, удивительно напоминает торс Павла. Откуда-то сверху играет бравурная мелодия. Сцена с конём вышла слишком одиозной, поэтому Эдуард решил переиграть и в следующий раз появился на пляже без коня. Мелодия исчезла. Он, сверкая накачанными икрами, в два прыжка оказался в воде и стремительно поплыл к тонущей девушке. Через мгновение Эдуард уже держал на руках обессилевшую, но благодарную даму и, красиво блестя мокрыми плечами, выходил из воды. На них были устремлены восхищённые взгляды всего пляжа. Слышались возгласы «браво!» и «ура!».
– Что за чёрт! Никак не могу забыть её. Постоянно думаю об этой цыганке, – проговорил вслух Эдуард. – Милая, юная, очаровательная… она как будто из другого мира.
Эдуард достал рисунок, обнял его и перевернулся на бок.
Наступил следующий день. Об этом Эдуард узнал, услышав характерный размеренный стук кровати о стенку в соседнем номере. «Кто-то явно был на электрофорезе из адлерской грязи», – подумал Эдуард и, сев на кровати, потянулся.
Спустя час Эдуард уже стоял неподалёку от места первой встречи с девушкой. В его грустных глазах отражался пустой пятачок, на котором, по идее, должна была стоять цыганка. Целый день Эдуард прохаживался по парку, занимая себя привычными развлечениями отдыхающих. Он по десять раз подходил к торговцам всевозможными сувенирами, так что в конце концов становилось неудобно и приходилось что-то покупать. Итогом прогулки стало то, что к вечеру у него собралась приличная куча всякого барахла. Эдуард даже предпринимал попытки подходить к прохожим с ненавязчивым вопросом: «А где тут можно погадать по руке?» – но и это не принесло успеха. В конце концов всё закончилось тем, что в восьмом часу вечера, чувствуя в ногах нестерпимый гул, Эдуард поднялся в свой номер и забылся тревожным сном.
Следующим утром Эдуард, держа в руках книжку и старательно обходя лавки с сувенирами, снова брёл по парку. Он шёл по тому же маршруту с прежней надеждой. Вдруг в глубине парка он увидел её. Казалось, с того самого дня, как Эдуард в первый раз повстречал цыганку, прошла всего пара часов. Девушка так же стояла на привычном месте и, так же улыбаясь, предлагала всем желающим вытянуть счастливый билетик. Сердце мужчины бешено заколотилось. Слюна куда-то пропала, и стало трудно ворочать языком. Не сводя глаз с цыганки, Эдуард купил стакан газировки и залпом выпил. Чуть успокоившись, он решился подойти.
– Добрый день, – глупо улыбаясь, поздоровался он.
– Здравствуй, яхонтовый мой. Тебе билетик вытащить или по руке погадать?
– Нет-нет. На этот раз моя очередь доставать билетики.
С этими словами, будто заправский волшебник, Эдуард вытащил из кармана два разноцветных билетика.
– Вот. Это билеты в цирк. И… я вас приглашаю, – сказал Эдуард и густо покраснел.
– Меня?! – удивилась цыганка и недоумённо подняла правую бровь.
– А что тут такого? Может мужчина пригласить женщину в цирк?
– Может. Если женщина свободна.
Действительно. А почему, собственно, она должна была быть свободной? С чего вообще он решил, что она должна была всю жизнь ждать только его? Самообладание покинуло Эдуарда, и к нему вернулась его треклятая особенность.
– К-к-к-какой же я и-и-и-иидиот! Иии-идиот. П-простите, ради... ради… бога. Я п-почему-то не подумал о-о-об этом. Вот д-дурья башка!.. Ну, конечно же, т-такая к-к-красивая девушка не-не может быть с-с-свободна. У н-неё обязательно до-до-должен быть м-м-муж.
Цыганка звонко рассмеялась:
– Да, я не свободна, но я не говорила, что я замужем.
– Т-т-тогда я ничего не-не понимаю. Это как?
– Это так. Я работаю сейчас. Поэтому и не свободна.
– В-вот оно что? А я-то подумал.… Ну, это не проблема.
– Как это не проблема? Может, это вам, москвичам, не проблема, а мы должны работать каждый день, чтоб прокормиться, – вздохнув, сказала цыганка и посмотрела в глаза Эдуарду.
– Сколько вы зарабатываете в день? – уверенно, без запинки выговорил Эдуард и почувствовал, что снова на коне.
– По-разному. Бывает и десять рублей, а бывает совсем ничего.
Эдуард достал из бумажника двадцать рублей и протянул цыганке:
– Вот, считайте, что сегодня вы отработали.
Цыганка сразу взяла деньги и спрятала их в том же непонятном месте в складках юбки.
– А что это за книжка у тебя в руках? – сразу сменив тему разговора, спросила она.
– Не знаю. Думал, что опять придётся прождать вас весь день. Решил занять себя чем-нибудь.
Цыганка взяла у Эдуарда книгу.
– А ты меня ждал?
– Ждал. Вчера весь день ждал. Честное слово! – почему-то стал клясться Эдуард.
Цыганка открыла книгу и стала вслух читать первый попавшийся абзац:
«Ёжик сказал медвежонку:
– Как всё-таки хорошо, что мы друг у друга есть!
Медвежонок кивнул.
– Ты только представь себе: меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем.
– А ты где?
– А меня нет.
– Так не бывает.
– Я тоже так думаю, – сказал Ёжик. – Но вдруг вот – меня совсем нет. Ты один. Ну что ты будешь делать?
– Пойду к тебе.
– Вот глупый! Меня же нет.
– Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц.
– И на реке нет.
– Тогда ты пошёл куда-нибудь и ещё не вернулся. Я побегу, обшарю весь лес и тебя найду!
– Нет, – сказал Ёжик. – Меня ни капельки нет. Понимаешь?
– Что ты ко мне пристал? – рассердился медвежонок. – Если тебя нет, то и меня нет. Понял?»
Эдуард, слушая её обворожительный голосок, подумал: «Странно. Вчера ночью я думал так же, как этот медвежонок».
Цыганка подняла взгляд на Эдуарда. Тот чуть не потерял дар речи, когда локон её чёлки откинулся с глаз, и на него уставились два огромных смоляных озера, окаймлённые пушистыми бесконечными ресницами. В горле у Эдуарда снова запершило, и стало нестерпимо душно.
– Всё-таки сложная штука жизнь, – выдавил из себя Эдуард. – Вот вчера у меня была одно маленькое желание: увидеть вас. Но когда вы не пришли, это желание превратилась в большую мечту. И сегодня она исполнилось.
Цыганка нежно улыбнулась:
– Ты такой смешной.
Наступило неловкое молчание, и чтобы как-то заполнить пустоту, Эдуард спросил:
– А что вы любите читать?
– А всё подряд. Что попадётся под руку, то и читаю. Хотя школу я не закончила, но читать люблю. Мать в детстве приучила. Говорила, что будешь невежей, замуж никто не возьмёт. Отец, правда, так не думал. А когда мать умерла, отец запретил вовсе ходить в школу и отправил работать наравне с братьями.
– Мне очень жаль. У вас, наверное, было тяжёлое детство? – участливо спросил Эдуард.
– У нас все дети начинают работать с ранних лет. Хотя тебе, наверное, этого не понять. Да и что это за работа, стоять с попугаем в парке? Наверное, так всю жизнь и простою. А так хочется иного, как в книжках.
– Да, вы достойны большего.
Цыганка немного задумалась и, кокетливо поправив волосы, сказала:
– А ты хороший… добрый. Ладно, пойду я с тобой в цирк. Но обещай, что не будешь приставать.
Эдуард засмеялся:
– Обещаю.
– Во сколько начало представления?
– В семь часов вечера.
– Тогда жди меня на этом месте в полседьмого, хорошо?
– Хорошо. Да, кстати, я даже не знаю, как вас зовут.
– Как и я тебя.
– Извините, ради бога. Меня зовут Эдуард. Друзья называют Эдик.
– Меня Лилия. Друзья называют… Лилия.
Они рассмеялись, и Эдуард так осмелел, что нежно взял руку цыганки:
– Ну, тогда договорились, Лилия, до вечера.
– До свидания.
«Лилия – как точно иногда имена соответствуют хозяевам!» – думал Эдуард, провожая взглядом цыганку.
Эдуард быстрым шагом направился в свой номер и более уже не выходил оттуда, занятый важными приготовлениями.
Начал он с того, что гладко выбрился. Бритва скользила по довольному лицу легко и непринуждённо, оставляя за собой блестящую гладкую кожу. Затем он придирчиво просмотрел весь свой гардероб и из четырёх вариантов выбрал лёгкий льняной костюм молочного цвета и белую сорочку, привезённую из поездки в Чехословакию. Тщательно проутюжив одежду, он сразу всё надел и подошёл к зеркалу. В отражении на него смотрел элегантный мужчина в зените своей жизни. С этого момента Эдуард старался не садиться, чтобы не помять одежду. Промаявшись в ожидании четыре часа, он вышел на улицу и стал прохаживаться по парку. Ровно в шесть Эдуард уже стоял на условленном месте и приготовился к завершающей фазе ожидания.
Через полчаса, вопреки традиционной привычке слабого пола опаздывать, на горизонте показался знакомый силуэт. Словно плывя по мостовой и озаряя всё вокруг головокружительной улыбкой, Лилия приближалась к Эдуарду. На ней было нарядное цветастое платье, в чёрных кудрях сверкала брошь, а на шее болтались крупные бусы красного цвета. Эдуард непроизвольно зажмурился.
– Ну, как я тебе? – первым делом спросила Лилия.
Девушка явно готовилась к встрече, стараясь понравиться мужчине.
– Вы просто великолепны.
– Спасибо. Я надела своё самое красивое платье. Ну, пойдём, что ли?
Вокруг цирка уже толпился народ и была слышна громкая музыка. Торговцы леденцами и чурчхелой яростно атаковали посетителей, стремясь впихнуть им свой товар. Минуя эту разгорячённую толпу и предъявив билеты, Лилия и Эдуард наконец-то оказались внутри огромного шатра. Заняв свои места, они приготовились смотреть представление. Начался концерт, и на арене, сменяя друг друга, стали выступать артисты. Лилия громко смеялась и по-мальчишески свистела в два пальца. Общий дух веселья подхватил Эдуарда и понёс куда-то в неведомые ранее дали заоблачного счастья. Он чувствовал эту черноглазую красотку такой близкой, понятной и открытой, будто бы знал её всю свою жизнь. Оказывается, именно такую он искал, естественную, как ребёнок, и чистую, как ангел. Время стремительно и незаметно летело. Они сидели рядом, то едва касаясь рук друг друга, то вскакивая с мест, чтобы похлопать. Публика ждала конца представления, когда обычно объявляли «гвоздь программы».
– А сейчас, уважаемая публика, гвоздь сезона! Неподражаемый, отважный и неповторимый повелитель лошадей Тарзан и его волшебные скакуны! Встречайте! – пробасил похожий на пингвина конферансье.
Под гром аплодисментов на арену выбежали роскошные лошади. Вслед за ними, облачённый в кожаный жилет, бриджи и мягкие ичиги, появился Павел. Эдуард сразу узнал своего знакомого древнегреческого бога. В этом диком одеянии дрессировщик был просто великолепен. Павел умело руководил лошадьми, которые демонстрировали разные трюки: скакали по кругу, перепрыгивали барьеры, пританцовывали, ходили на задних ногах. Легко вскочив на одну из лошадей, вереницей несущихся по кругу, он выполнил несколько акробатических элементов: стойка на руках, перевороты, прыжки. Публика была в восторге, а Лилия впервые за всё представление притихла. Она стояла и тихо, не отрывая глаз от арены, смотрела номер.
– С вами всё в порядке? Если не нравится, мы можем уйти! – забеспокоился Эдуард.
– Нет-нет, всё нормально… – рассеянно ответила Лилия.
Номер закончился, и дрессировщик под бурные овации увёл своих четвероногих артистов за кулисы.
Выйдя из цирка, Эдуард и Лилия держались за руки и о чём-то оживлённо болтали. Мужчина классическим жестом предложил отужинать вместе, и женщина, так же классически заметив, что уже поздно, согласилась. По дороге в ресторан парочка завернула в тир. Эдуард оказался на редкость метким стрелком и даже выиграл для дамы плюшевого медвежонка. Уже скоро они сидели за уютным столиком на открытой веранде ресторана.
– Когда выступали эти клоуны, я чуть живот не надорвала от смеха. Вот умора! А обезьянки? Ой, они такие смешные! – делилась впечатлениями девушка.
– А мне лошади понравились. Смотря на них, я вспоминал своих лошадей, которые остались в Москве.
Лилия удивилась:
– У тебя есть лошади?
Глава третья
ПЕРВЫЙ ПОЖАР
31 декабря 1987 года. Кабинет следователя
– Кстати, объясните, а откуда у вас лошади? Вы купили их на зарплату директора магазина? – усмехнулся Филатов, до этого момента с интересом слушавший рассказ.
Эдуард, вдруг будто опомнившись, запнулся и глянул на следователя. В его отсутствующем взгляде вновь отразился испуг, словно бы его резко разбудили среди ночи и оторвали от прекрасного сна. Тяжесть наручников снова притянула Эдуарда к грешной земле.
– Дело в том, что мой отец работал в горкоме Москвы… – начал издалека задержанный. – У него были возможности содержать лошадей. Первых скакунов он привёз из поездки в Туркменскую ССР. В дальнейшем у нас периодически появлялись новые, каких-то он отдавал. А одного подарил сам Гришин, тогдашний первый секретарь горкома Москвы. У отца с Гришиным были хорошие, дружеские отношения. После смерти отца семь лет назад нам осталась дача за городом, где я со своей семьёй и проживаю… то есть проживал. Отец с детства привил мне любовь к этим совершенным животным. Это самое прекрасное, что придумала природа. В каждом их движении чувствуется что-то неземное, высокое и чистое…
Лето 1987 года. Сочи
В ресторане играла музыка, и Лилия с Эдуардом ворковали за своим столиком. Эдуард ловил на себе кокетливые взгляды девушки, от чего его бросало то в жар, то в холод. Он тихо млел от нежности к своей избраннице и любовался её непослушными кудрями, разбросанными по загорелым красивым плечам.
– Ты так красиво говоришь о лошадях, – заметила Лилия, – что мне самой захотелось стать лошадью. Хотя если бы ещё вчера мне кто-то сказал, что я похожа на лошадь, то я бы убила его.
Эдуард, смеясь, поднял бокал с лимонадом:
– Тогда выпьем за красоту, которая спасёт мир.
– Красиво сказал, – похвалила его Лилия, кокетливо накручивая на палец локон своих пышных волос.
– Это сказал не я, а Достоевский.
– Это твой друг?
– И не только мой… с Достоевским должны дружить все.
– А почему у тебя бокал с лимонадом?
– Понимаешь, в чём дело… – сделав паузу, смутился Эдуард. – А, ладно… какого чёрта!
И он с чувством, которое испытывает игрок, ставящий всё на «зеро», налил себе рюмку коньяка...Утром Эдуард проснулся в своём номере. Его безжалостно мутило, а в голове гудело, как в паровом котле. Он с трудом разлепил правый глаз. В мутном фокусе глаза расплывался чей-то обнажённый силуэт. Эдуард открыл второй глаз, и рассеянная сюрреалистическая картинка собралась в одно целое, превратившись в Лилию, которая в неглиже расчёсывала волосы перед зеркалом. Рядом с ней на полу, прислонённая к стенке, стояла большая картина с цыганской кибиткой. Мужчина, ничего не понимая, уставился на голую девушку.
– Проснулся, соня? Я ужасно проголодалась. Одевайся, пойдём позавтракаем, – сказала Лилия, увидев проснувшегося любовника.
– Лилия? Что?.. Что вы тут делаете? – совершенно искренне недоумевая, спросил Эдуард.
Цыганка обернулась к мужчине:
– Как это, что делаю?! А кто вчера умолял не уходить? Кто вчера ползал на коленях и признавался в любви? Кто вчера обещал жениться?
– Я?!
– Нет, Достоевский! Может, ты ещё и не помнишь, как почти силой затащил меня в свой номер?
Лилия расплакалась и начала собирать свои вещи, разбросанные по всему полу:
– Скотина! Подлец!… А я-то, дурочка, возомнила себе, что теперь всё будет как в книжках.
– Лилия, подождите… я… вы... Вы всё не так поняли, – промямлил Эдуард, борясь с подступившей тошнотой.
– А как это ещё понимать? Обманул доверчивую девушку, затащил в постель…
– Но я не обманывал вас…
Лилия, кое-как одевшись, выскочила из номера. Её рыдания ещё долго слышались в пустом коридоре гостиницы. Эдуард попытался было догнать девушку, но крайне неудачно запутался в штанинах и шлёпнулся голым телом на казённый паркет.
Вечером того же дня Эдуард искал Лилию по всему побережью. Он прошёлся несколько раз по парку, спрашивал у прохожих, искал около пляжа и даже рядом с цирком. Никто её не видел. Цыганка испарилась, как мираж, словно её и не было никогда.
Пробродив по городу весь вечер, Эдуард вконец выбился из сил и пришёл на берег моря. Солнце прощально стелило по воде свои последние желто-оранжевые лучи. Эдуард отрешённо пошёл по урезу прибоя. Его печальный силуэт на фоне золотого заката в этот момент был достоин кисти лучших мастеров. Под грустную мелодию, играющую в его душе, он оставлял одинокие следы, которые сразу же слизывала очередная накатившая волна. Лирический мотив, не выдержав тесноты внутреннего мира Эдуарда, наконец вырвался на волю, оказавшись мелодией из музыкального спектакля «Юнона и Авось».
– Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду... – голосом, готовым сорваться на плач, тихо пропел про себя Эдуард.
Ветер доносил то звуки где-то играющей музыки, то голоса загулявших людей, но все они утопали в монотонном плеске волн. Солнце уже совсем скрылось за горизонтом, и скоротечные южные сумерки уступили место вечерней темноте, когда вдруг до Эдуарда, перебивая тихий шелест волн, стали доноситься стоны и всхлипывания. Эдуард посмотрел вперёд и в свете одинокого фонаря увидел Лилию. Она, прислонившись к большому валуну, стояла, закрыв руками лицо. Рассеянный свет фонаря освещал сгорбленную фигуру девушки, которая мелко содрогалась от душившего её плача.
– О боже, Лилия! Слава богу! – вырвались у Эдуарда слова облегчения.
Он подбежал к девушке и взял её за плечи. Лилия, не поднимая головы, продолжала плакать.
– Послушайте, я хотел извиниться! – быстро, боясь, что его перебьют, начал Эдуард. – Я понимаю, что обидел вас. Я не хотел. Чёрт… что я говорю? Понимаете? У меня есть такая особенность организма: если я выпью, то потом ничего не помню. То есть совсем ничего. И я был удивлён, когда утром проснулся и увидел… вас. Но это всё не важно. Самое главное, что я хотел сказать…
В ночном небе, со стороны пустыря, где расположен цирк, начало подниматься зарево пожара, но Эдуард не замечал ничего вокруг в тот момент. Он просто хотел, чтоб его выслушали.
– …Это то... что я вас люблю.
И будто большая, тяжёлая скала упала с плеч. Слова стали литься легко. Казалось, что говорил не он, а нужные слова кто-то сверху вкладывал в его уста.
– ...Люблю с первого взгляда. Я понимаю, это звучит глупо, когда взрослый мужик рассказывает о любви с первого взгляда, но это на самом деле так. Я столько лет искал вас и вот, кажется, нашёл.
Лилия перестала плакать и, затаив дыхание, слушала горячее признание. Наконец она подняла голову, и Эдуард обомлел: на её лице виднелись многочисленные кровоподтёки, а под глазом горел большой синяк.
– Господи, Лилия… кто это сделал? – испугавшись, спросил мужчина.
– Братья. Они хотели убить меня… – тихо отвечала цыганка. – Я опозорила семью, когда осталась с тобой вчерашней ночью. Они заперли меня в сарае и пошли искать тебя. Кроме того, у них были какие-то дела этой ночью в городе. Уезжай, тебе грозит опасность.
– Я без вас никуда не уеду!
– Без меня? Ты не понимаешь? Со мной всё решено. Мне осталось-то жить пару дней, пока они меня не найдут.
– Это вы не понимаете. Я люблю вас. Не для того я искал вас столько времени, чтоб вот так потерять. Неужели вы думаете, что я теперь оставлю вас? Мы сейчас же уедем.
Лилия приподняла бровь и удивлённо глянула на Эдуарда, на лице которого была написана непоколебимая решимость.
– Мой любимый, ты правда не оставишь меня? – с надеждой в голосе спросила девушка.
Смотря на это избитое личико, ощущая нежность её прикосновений, слыша любимый голос, Эдуард отчётливо понял, что теперь в его жизни всё изменилось. Теперь он не будет принадлежать самому себе. Две судьбы тесно сплелись в одну жизнь, которая тянулась к солнцу и требовала своей порции счастья.
Вдруг в их разговор грубо вмешался звук истерично завывающей сирены. Он ревел и приближался вместе с огромной пожарной машиной, освещающей себе дорогу красно-синими огнями. Пожарники на полной скорости пронеслись по дороге в сторону цирка. Только сейчас Эдуард и Лилия заметили беснующееся пламя пожара над тем местом, где был цирк.
– Пожар. Пламя. Вот какое пламя вы нагадали мне? – прошептал Эдуард.
Со стороны пустыря, где бушевал пожар, послышался топот конских копыт. Звук нарастал, и на берегу, освещаемом луной, появились бегущие галопом лошади. Группа лошадей скакала в сторону Эдуарда и Лилии.
– Мамочки! Это братья! Они нашли нас, – вскрикнула Лилия.
Они забежали за валун, и вовремя, потому что в это время табун пронёсся в двадцати метрах от них. Лошади были без наездников. Только на первой лошади, в авангарде группы, сидел низко пригнувшийся человек.
– Если это был один из твоих братьев, то у него очень хорошие лошади, – сказал Эдуард, провожая взглядом уносящихся в ночь лошадей.
– Нет, это не мой брат. Но я его где-то видела.
– К чёрту его. Скорее, у нас мало времени.
С этими словами Эдуард взял Лилию за руку и быстро зашагал прочь. Они прошли по тропинке мимо парапета, выбрались на другую улицу и побежали по направлению к гостинице.
– Лилия, у вас паспорт с собой?
– У меня его никогда не было.
– Плохо. Придётся договариваться с проводником.
– Эдик…
– Что?
– Перестань меня называть на «вы». Ненавижу, когда мне выкают.
* * *
...«Советские поезда – самые поездатые поезда в мире!» – этот народный лозунг был злой усмешкой в пику разбушевавшемуся советскому агитпропу. В каждом министерстве или любом другом государственном учреждении сидели такие восторженные оптимисты, которые то ли сами верили, то ли надеялись, что народ поверит в то, что в Советском Союзе всё самое лучшее! Нет, в великой стране, конечно же, было чем гордиться, но когда повод для гордости под бдительным присмотром спускался сверху, он начинал отдавать партийными духами «Красная Москва» и казённостью правительственных коридоров. Периодически на свет появлялся свежий лозунг с обязательным словом «самый», призванный донести до людей очередную радостную истину. К примеру, лозунг «Советские курорты – самые лучшие курорты в мире» должен был успокоить людей, к которым ненароком могла забрести в голову предательская мысль, что на свете могут быть и другие курорты. «Советский народ – самый счастливый народ в мире» – этот лозунг должен был охватить ещё большую массу людей, которая не могла себе позволить на своём примере проверить подлинность лозунга про курорты. И вдогонку следовал лозунг, призванный закрепить достигнутый успех: «Советский Союз – самая лучшая страна в мире». Из-за слишком частого употребления в государственных посылах слова «самый» такие правдивые лозунги, как «Наш Шерлок Холмс – самый лучший Шерлок Холмс в мире» или «Советский Союз – самая читающая страна в мире», терялись в громогласном оптимистическом хаосе. В безмерном количестве плакатов и лозунгов, подстерегающих советского человека за каждым углом, сама собой появлялась мысль, что впору было создавать новую государственную структуру под названием «Министерство по делам Оптимистического Максимализма».
...Стук колёс поезда «Сочи – Москва» задавал ритм течению жизни пассажиров. Вагон плавно покачивался на уходящих за горизонт рельсах и скрипел каждым стальным болтиком своей железной души. В знойном воздухе седьмого купе немым укором всему министерству путей сообщения служил вид наглухо закрытой форточки. Никакие физические усилия не могли сдвинуть с места упрямую створку, задвинутую каким-то добросовестным и, судя по всему, очень сильным работником проводниковой братии. Кто это сделал, никто не знал, что не мешало каждому, кому посчастливилось ехать в этом купе, вспоминать его с особым трёхэтажным удовольствием. Жара была такая, что сидеть при закрытых дверях было невозможно. За окошком весело мелькали ночные огни. Из соседнего купе доносился богатырский храп.
Эдуард и Лилия сидели за столиком. В тусклом освещении купе девушка всматривалась в своё отражение в маленьком зеркальце. Здоровенный синяк под правым глазом настолько резко диссонировал с другими частями ангельского личика, что казался неудачным театральным гримом.
Девушка дотронулась до вспухшей щеки и поморщилась от боли.
– Не переживай, дорогая, через неделю всё пройдёт, – успокоил её Эдуард.
– Мне так страшно! – невпопад ответила Лилия.
– Я же сказал, что пройдёт.
– Я не этого боюсь. Раньше я не выезжала дальше Сочи, а тут Москва, неизвестность…
– Любимая, я тебя в обиду не дам. Теперь у тебя будет новый дом и новая семья. Ты веришь мне? – сказал Эдуард и пересел поближе к цыганке.
– Очень хочу верить... – прошептала Лилия, щурясь перекошенной стороной лица на Эдуарда.
За окном замелькали фонари, поезд потихоньку сбавил ход. Впереди, в неярком освещении электричества, появилась какая-то маленькая станция. В тишине ночи послышался смех проводников и весёлый мат сцепщиков, и, словно бы подтверждая малозначительность станции, состав тут же тронулся, сделав остановку лишь на две минуты.
Спустя несколько минут, к удивлению Эдуарда, купившего все места, в открытую дверь седьмого купе вошёл человек с дорожной спортивной сумкой в руках. Его широкие плечи обтягивала лёгкая парчовая куртка, а ноги – модные импортные джинсы. На запястье красовались часы «электроника 5».
– Здравствуйте, люди добрые! – весело поздоровался вошедший.
– Здравствуйте… – удивился Эдуард новому пассажиру.
– Ого, по-моему, мы уже встречались! – сказал пассажир, оказавшийся Павлом.
– Да-да, на пляже, – узнал того Эдуард.
– Точно! Надо же, какая встреча! А вы что, уже уезжаете? Короткий же у вас получился отпуск.
– Так получилось, что мне срочно нужно вернуться в Москву.
– Понимаю. Сам туда спешу.
– А это моя... ээ... спутница, Лилия.
– Очень приятно, – сказал Павел и взглянул на Лилию.
Девушка, забыв обо всём, во все свои полтора глаза смотрела на Павла. Из-за недавно приобретённой физической особенности её лицо не совсем точно передавало переживаемые чувства, отчего было непонятно, то ли она испугалась, то ли была ужасно рада видеть новоявленного соседа по купе.
– По-моему, я не совсем вовремя, – замялся Павел. – Вы тут, по-видимому, что-то... серьёзное обсуждали.
– Нет-нет… – спохватился Эдуард. – Не обращайте внимания. Лилия неудачно упала с лестницы.
И чтобы как-то перевести разговор, спросил:
– А у вас что, гастроли уже закончились?
– А вы не в курсе? Цирк же вчера вечером сгорел.
– Какой ужас! Мы видели зарево, но я и не думал, что это горит цирк! – искренне удивился Эдуард.
– Да уж, горело так, что мама не горюй.
– А жертвы есть?
– Да я, честно говоря, не в курсе. Пойду покурю, – с этими словами Павел достал сигареты и вышел из купе.
– Нет, это всё-таки возмутительно! – чуть погодя обратился Эдуард к Лилии.
– Что, дорогой? – очнулась от задумчивости девушка.
– Я же купил все места в этом купе, чтобы нас никто не смущал.
– Ну, не сердись. Всё же бывает. Может, он ошибся купе.
– Нет, я этого так не оставлю! Я сейчас же поговорю с проводником.
С этими словами Эдуард с самым решительным видом вышел из купе и пошёл искать подлого проводника. Не найдя его в своём вагоне, он решил перейти в следующий. Там за общим столом собрались несколько проводников из разных вагонов. Они отмечали чей-то день рождения.
Один из «вагоновожатых», держа в вытянутой руке гранёный стакан с прозрачной жидкостью, важно вещал:
– Давайте выпьем за Палыча. Золотой человек, что и говорить! Столько лет хожу с ним в рейды, ещё ни разу не подставил, не подвёл. Нету этой подлянки у него…
Судя по стеснительно потупленному взору и признательной улыбке, Палычем был сидящий у окна мужчина, по совместительству оказавшийся ещё и проводником вагона, в котором ехал Эдуард.
– Извините, что прерываю, могу я с вами переговорить с глазу на глаз? – спросил Эдуард, смотря на Палыча.
Проводник пробубнил что-то так, чтобы услышали только сидящие за столом. Сидящие тут же с ухмылкой оглянулись на прервавшего застолье мужчину.
– Ну, что ещё? – недовольно скривил губы Палыч, от которого разило дешёвым коньяком и шпротами.
– У меня к вам просьба. Не могли бы вы найти для нас другое купе? – вежливо попросил Эдуард, стараясь держать в узде священный гнев обманутого потребителя.
– Ещё чего! Свободных мест нет. Тем более для вас с вашей спутницей, – резко возразил просителю именинник. – Мало того, что взял её без документов – на свой страх и риск, между прочим, – так чего доброго эта цыганка стащит у пассажиров что-нибудь. Вообще, я бы вам не советовал выпускать её из купе. Такой интеллигентный человек, а водите знакомства с асоциальными элементами. Учтите, я не допущу краж во вверенном мне вагоне.
Что-то щёлкнуло от этих слов внутри Эдуарда. Какая-то дверь с вывеской «не беспокоить» вдруг открылась, и оттуда, сонно зевая и потягиваясь, вышли смелость и отвага. «И откуда что берётся?» – успел подумать Эдуард, когда взял проводника за грудки и прижал к закрытым дверям купе. По-видимому, события последних двух суток затронули глубинные струны его души, дойдя до первобытных мужских инстинктов, доселе погребённых под толстым слоем хорошего воспитания.
– Слышишь, сморчок! – смотря прямо в глаза проводнику, сказал Эдуард и тут же подивился собственной дерзости. – Ещё раз вякнешь нечто подобное, и я размажу тебя по стенкам вверенного тебе вагона. Когда ты сдирал с меня тройную цену за четыре места, ты был сама вежливость. Забыл уже?
– Да я что? Я ничего. Просто действительно мест нет, – испуганно затараторил проводник.
– Так бы и сказал… – произнёс Эдуард, и для профилактики подержав проводника в таком положении ещё несколько секунд, разжал руки.
Возвращаясь в своё купе, Эдуард ещё думал о случившемся. Ещё никогда, по крайней мере пребывая в трезвом состоянии, он не позволял себе такой бестактности по отношению к людям. Чуть выпив, он становился неуправляемым, раздражительным и даже агрессивным человеком, его характер менялся на прямо противоположный. Но что случилось сейчас? Он же был абсолютно трезв. Хотя нет. Он был влюблён, а опьянение любовью, получалось, действовало на него так же, как и алкоголь. Какая-то гордость за самого себя поднялась изнутри и вызвала довольную улыбку. Должно быть, именно так себя чувствовал первобытный мужчина, только что спасший свою пещеру от саблезубого тигра. И сейчас, словно человек, сделавший себе новые коронки на зубы и теперь привыкающий к новым ощущениям во рту, Эдуард тревожно прислушивался к новому осознанию самого себя. В таком углублённом в собственные мысли состоянии он подошёл к своему купе и услышал весёлый Лилин смех.
– Дорогой, ты вернулся? Знаешь, Пашка оказался очень интересным собеседником, – улыбаясь одной стороной лица, обратилась к Эдуарду Лилия.
– Пашка? – удивился Эдуард.
– Да, так зовут меня друзья, – отозвался Павел.
– О, вы уже, значит, подружились?
И снова он открыл в себе новое чувство. Какая-то неприятная злоба по отношению к Павлу и обида на Лилию, взявшись за ручки, вместе постучались в душу Эдуарда. Так он в первый раз в жизни познал ревность. Новое чувство, как показалось Эдуарду, было противным и холодным, словно оставленная с вечера в холодильнике манная каша.
– Я как раз рассказывала Пашке про обезьянок, которых мы видели в цирке, – тем временем весело щебетала Лилия.
– Да, было хорошее представление. То, что случилось с цирком, это ужасно. А лошади? Что с ними? Сгорели? – Эдуард сел возле Лилии и присоединился к разговору.
– Лошади? Нет, лошади целы.
– Слава богу! Вы храбрый человек. Я видел, как вы управлялись с лошадьми. Сразу чувствовалась опытная рука. Где вы этому научились? – поинтересовался Эдуард.
– Мой отец служил в конной милиции, и я пацаном часто бегал к нему на конюшню. Знал поимённо всех лошадей. Это удивительные животные. Они никогда не предадут хозяина. Даже не хозяина – друга. Лошади должны чувствовать в человеке друга. И тогда пойдут с тобой хоть на смерть.
Как обычно бывает в поезде, тесное знакомство завязалось быстро. По мере общения выяснилось, что Павел оказался добрым и весёлым малым. Он много шутил и рассказывал весёлые и смешные истории из собственной, весьма насыщенной цирковой жизни. Чем дальше, тем больше Эдуард симпатизировал Павлу. Через час ему уже казалось, что они знакомы всю жизнь. Этот весёлый простой молодой человек с открытым взглядом серых глаз не мог не нравиться людям. Спустя какое-то время попутчики решили поужинать и, весело смеясь, переместились в вагон-ресторан. Там в ночной час не было никого, и они уселись за первый попавшийся стол.
– …Я ему говорю: ты что это с утра в гриме? – всё сыпал историями Павел. – А он отвечает: это не грим, это мы с мужиками вчера аванс обмывали.
Все трое засмеялись.
– Кстати, а почему ты уезжаешь? – вспомнив про пожар, спросил Эдуард. – Ведь, наверное, будут собирать новую труппу. Лошади целы, так что мог бы работать дальше.
Павел вдруг сразу стал серьёзным. Перестав улыбаться, он ответил:
– Понимаешь… у меня документы сгорели на пожаре, а у нас в стране, сам знаешь, без бумажки ты букашка. Вот, еду в столицу восстанавливать. Только у меня знакомых нет в Москве. Даже не представляю, где буду жить? Можно, конечно, в гостинице, но это накладно.
Лилия повернулась к Эдуарду и, мурлыкая, предложила:
– Милый, может, ты возьмёшь его к себе? Он бы тебе и с лошадьми помог.
– У тебя есть лошади? – с интересом спросил Пашка.
– Да, два ахалтекинца.
Павел откинулся на спинку стула и с каким-то новым интересом взглянул на Эдуарда.
– Мне всегда были интересны люди, которые увлекаются лошадьми. У меня с ними много общего, – сказал Павел.
– А ведь это хорошая идея. С моей работой на животных почти времени не остаётся. Поезжай с нами, Пашка, – с ходу неожиданно для себя согласился Эдуард.
Ему эта идея очень понравилась. Он давно искал для своих скакунов хорошего смотрящего. Лошадям нужна была твёрдая рука, которой не было у Эдуарда. Животные, чувствуя это, в последнее время совсем перестали слушать хозяина. Кроме того, за ними нужен был постоянный уход, но из-за рабочего графика Эдуард не мог быть рядом с лошадьми постоянно.
– Предложение, конечно, заманчивое, но я боюсь, что стесню вас.
– Глупости. Места всем хватит. Тебе всё равно негде оставаться, а тут будешь и при любимом деле и пусть при небольшой, но всё-таки зарплате. Ну, пока сам не захочешь уехать.
– Ну что ж! Я согласен. За это нужно выпить. Эй, командир! – крикнул Павел.
К столику, сильно сопя носом, подошла официантка в грязном фартуке. В её заспанных глазах читалось сожаление о прерванном сне и какое-то страшное проклятие.
– Принеси-ка нам бутылку «Советского».
– Ага, щас! Вот прям побежала и принесла! – угрюмо ответила официантка. – Ты сперва заплати за неё, а потом заказывай. А то знаю я вас таких. Закажете, выпьете, а потом смываетесь. Плати потом за вас.
– Нет, барышня, это не про нас. Держи! – С этими словами Павел вытащил из кармана пачку денег и расплатился с официанткой.
– Ого, с такими деньжищами – это мне впору к тебе наниматься! – к всеобщему веселью пошутил Эдуард.
Глава четвёртая
АЛТАРЬ ДЛЯ МАТЕРИ
По дачному посёлку Подмосковья, между зелёными дощатыми изгородями и красивыми палисадниками, пылило жёлтое такси. Проехав по главной дороге, такси завернуло в переулок и остановилось рядом с резными белыми воротами. Всю дорогу тикавший счётчик наконец-то замолк. Эдуард расплатился с таксистом и вышел из автомобиля. За ним последовали Павел и Лилия.
– Вот моя деревня, вот мой дом родной, – расплываясь в умилённой улыбке, произнёс Эдуард.
Он открыл дверцу, и все трое вошли во двор. Перешагнув порог, они словно бы сделали прыжок во времени и перенеслись на столетие в прошлое. Перед ними, утопая в вишнях и розовых кустах, стояла небольшая двухэтажная усадьба с белоснежными колоннами, зелёной крышей и романтическим балкончиком. По периметру, с внутренней стороны довольно высокого забора, росли голубые ели. Справа от дома был отгорожен манеж, там же виднелась деревянная конюшня с небольшой пристройкой. Просторный приусадебный двор пестрел клумбами и всевозможными деревьями, между которыми аккуратно были выстланы дорожки из спилов. Свободное пространство перед домом и конюшней было выложено брусчаткой. Рядом с загоном на изумрудном газоне высилась резная летняя беседка, под крышей которой стояли кресло-качалка и небольшой круглый столик, накрытый белой скатертью. Смотря на эту красоту, можно было подумать, что стоит только углубиться в зелёный сад, и там, под тенистой кроной липы, непременно встретишь сидящую на скамеечке барышню, которая, аккуратно подобрав нежной ручкой кружевное платье, зачиталась томиком Байрона. Всё тут дышало русским аристократизмом конца восемнадцатого века. Хотелось французского шампанского, ангажементов на балах и весёлой мазурки.
Тем временем Эдуард, Лилия и Павел прошли в дом. Из холла на второй этаж вела деревянная винтовая лестница в один оборот, перила которой были украшены узорами русской гжели. Весь интерьер дома был выполнен в пастельных тонах, что делало внутреннее убранство светлым и уютным. На стенах висели репродукции картин известных художников. Среди них было также несколько подлинников, но их авторы были скорее малоизвестны.
– И ты здесь живёшь? – озираясь, спросила Лилия, что можно было понять как «Неужели и я тут буду жить?!».
– Теперь мы вместе будем тут жить, дорогая! – к пущему удовольствию Лилии подтвердил её догадку Эдуард.
– Всё так красиво! – восхищённо заметила Лилия.
– Да, чувствуется женская рука.
– Что?! Какая такая женщина? Ты не говорил ни о какой женщине.
Лилия удивлённо оглянулась на Эдуарда.
– Тихо-тихо. Что ты встрепенулась? Это дело рук моей мамы. Она же тоже женщина.
– Твоя мать живёт вместе с тобой?
– Ну да! А я тебе не говорил? Я бы один пропал. Совершенно не приспособлен обслуживать сам себя. Пойдём, покажу нашу комнату.
Они поднялись на второй этаж, оставив Павла рассматривать картины в холле. Из всего многообразия картин он узнал только одну. Эта была репродукция картины Шишкина «Утро в сосновом бору». Павел вспомнил, что недавно ел конфеты, на обёртке которых была такая же картинка. «Мишка косолапый» – так, кажется, назывались эти конфеты.
Тут он затылком почувствовал непонятную тревогу. Павел обернулся и встретился взглядами с суровым седым мужчиной, смотрящим на него из обрамлённой золотой рамкой картины. По взгляду из-под косматых бровей можно было поднять, что гость герою портрета очень не нравится. Казалось, вот-вот из нарисованных губ должно было слететь что-то вроде: «Чё припёрся?» Впрочем, логично было бы предположить, что ему не нравился никто из тех, кто заходил в дом. Картина висела над аркой, ведущей из холла, и заходящие в просторную комнату не сразу замечали у себя над головой этого неприветливого старика.
В этот момент послышались шаги спускающегося со второго этажа Эдуарда. Воодушевлённый любовью, он что-то насвистывал себе под нос.
– Это кто? – спросил Павел, указывая на картину.
– Это мой отец, – улыбаясь, ответил Эдуард. – Добрейшей души был человек. Посмотри, какой у него ласковый взгляд.
И было непонятно, то ли Эдуард иронизировал, то ли действительно считал этого угрюмого старика добрым.
Павел изумлённо заморгал, но ничего не ответил.
– Пойдём, покажу твои апартаменты, – сказал Эдуард, и они оба вышли во двор.
Красивый флигелёк, украшенный резными ставнями и высоким крыльцом, напрямую прилегал к конюшне и даже имел отдельный вход прямо к стойлам. Выкрашенный в светло-голубой цвет, он напоминал домик Снегурочки.
Раздался щелчок, и деревянная дверь со скрипом распахнулась. Внутри всё было не так мило, как снаружи. Вся мебель единственной комнаты состояла из железной кровати, книжного шкафчика и грубо сколоченного стола с одним стулом. На подоконнике в пузатых горшках росли кактусы всевозможных размеров и форм. Причём некоторые формы были настолько экзотичны, что любой воспитанный человек при виде их тут же стыдливо старался отвести взгляд.
– Вот твоя комната. Условия, конечно, не люкс, но жить можно. – И Эдуард жестом благородного рыцаря обвёл комнату рукой. – Здесь есть всё необходимое. В той комнате кухня, дальше санузел. Кровать, стол, стул... чисто мужская берлога.
– Да, всё по-мужски… – ответил Павел и покосился на подоконник.
Эдуард прошёл на кухню, и его голос зазвучал из конца коридора:
– Здесь жил папа, когда они с мамой ругались. Ну, знаешь, всякое бывало. Отец был человеком с тяжёлым характером, но справедливым. – Послышалось журчание воды из крана. – На кухне есть вся необходимая посуда и небольшой холодильник.
– Ясно, – вздохнул Павел. По его голосу можно было понять, что после увиденного в доме он ждал совсем другого. – Ну, а где лошади?
– Пойдём, покажу моих красавцев, – ответил Эдуард, вытирая руки полотенцем.
В конце коридора была дверь, из-за которой уже слышалось нетерпеливое фырканье. Из конюшни пахнуло навозным духом и прелым сеном. Две изящные лошадиные головы выглянули из стойла и приветственно заржали.
– Вот они, мои любимые, – нежно сказал хозяин и потрепал лошадиные холки. – Жеребец и кобылка. Ну, как они тебе?
– Красивые. Обожаю ахалтекинцев. Их пластику и грацию, крепость экстерьера ни с чем не перепутать. Очень грациозные лошади.
Павел подошёл к жеребцу и, словно покупатель на базаре, грубо раздвинув губы лошади, заглянул ей в пасть. Лошадь, не привыкшая к такому обращению, презрительно фыркнула и отдёрнула голову.
– Ого! С норовом.
– Был ещё один старый жеребец. Мишка – так мы его звали. Грустная история получилось с ним.
Эдуард привычным движением подлил в поилки лошадям воды и дал корма.
– Расскажешь? – спросил Павел.
Мужчины, продолжая разговор, вышли из конюшни. Эдуард ответил не сразу. Облокотившись о толстую рею загона, он обвёл взглядом весь дом. В памяти всплывали подробности той истории.
– Отец привёз из Туркмении эту кобылку, тогда ещё совсем юную, и Мишку – большого, взрослого самца, – начал свой рассказ Эдуард. – Они долго у нас жили. Года через три отцу подарили молодого жеребца. И стало у нас три лошади: два жеребца и одна кобыла. В общем, классический любовный треугольник. Если бы ты видел, как Мишка ревновал свою любимую к молодому чужаку. А что он мог сделать против молодости и силы? Мишка очень болезненно воспринял отношения между своей любимой и молодым конкурентом. Он перестал есть и целыми днями сидел у себя в стойле. А однажды вечером отец нашёл Мишку мёртвым по середине загона.
– От чего он умер? – спросил Павел.
– Не знаю. Вроде, миокардит, а может, просто не вынес разлуки.
Последовало молчание. Каждый задумался о своём.
– Ну, ладно. Ты располагайся, а я пойду погляжу, что в доме делается.
Эдуард зашагал к дому, когда услышал звук остановившейся за воротами машины. В дверь потыкали ключом, и на пороге появилась Любовь Александровна собственной персоной.
Это была женщина шестидесяти пяти лет, десять из которых скрывал густой слой тонального крема. Её карие, подведённые тенями глаза выразили крайнюю степень удивления, увидев словно с неба свалившегося сына. Чуть резковатые черты лица смягчались радостной улыбкой напомаженных губ. Серый твидовый костюм на дорогой шёлковой подкладке, состоящий из приталенного пиджака и узкой юбки до колен, подчёркивал не по годам стройную фигуру. Элегантная шляпка горшочком и длинная нитка белого жемчуга, в несколько оборотов обведённая вокруг шеи, дополняли романтический образ «иконы стиля салона № 31 по Рю Камбон в Париже». И лишь авоська, болтающаяся в руке Любови Александровны, выдавала в ней советскую женщину. В авоське мирно покоились только что купленные банка сгущёнки, батон «Бородинского», полпалки «Докторской», спички и роман «Доктор Живаго».
Алексей, постоянный таксист Любови Александровны, давно уже уехал, а мать ещё стояла на пороге, оторопело глядя на сына.
– Здравствуйте, мама, – голос Эдуарда вывел из ступора мать.
Эдуард на старый манер называл свою мать на «вы». К этому сына приучила сама Любовь Александровна, считавшая, что уважительные отношения в семье обязательно нужно начинать с правильного обращения. К слову говоря, отца Эдуард всегда называл по-простому, на «ты», чему Любовь Александровна никак не препятствовала, считая это исключением из правил. Почему должно было существовать такое разделение по половому признаку, оставалось неизвестным, так как никому и в голову не приходило спросить об этом у Любови Александровны. Вообще, Любовь Александровна в деле воспитания ребёнка и взращивания семейных ценностей равнялась на старые, ещё дореволюционные времена. Она свято считала, что сейчас молодёжь, к коей она относила и своего тридцатилетнего сына, совершенно потеряла нравственные ориентиры. Рождённая уже после Великой Октябрьской революции, она была воспитана своей бабушкой – бывшей классной дамой, по всем правилам женских гимназий и нравственных канонов царской эпохи. Особенное рвение в учёбе Любочка проявила к литературе, так что к семнадцати годам перечитала, как ей казалось, почти всех русских писателей, и даже одолела два с половиной раза «Войну и мир». Русская классическая словесность оставила глубокий отпечаток в душе Любови Александровны, и она пронесла этот огонёк через всю жизнь, окружая себя атрибутами тех времён, когда гремели балы и требовались сатисфакции.
В повседневной жизни это проявлялось в том, что чем больше Любовь Александровна начинала волноваться, тем больше в её речах проскальзывали архаизмы, которыми современный советский человек уже давно не пользовался. Так в моменты глубоких душевных переживаний Любовь Александровна могла, сама того не замечая, заговорить на русском, которым пользовался ещё Император Всероссийский Александр I. Что уж говорить про бурные истерики, когда смысл сказанного мог понять разве что учёный-языковед, специализирующийся на старославянском. В минуты же радости подсознание Любови Александровны самопроизвольно генерировало слова на французском языке, а иногда и целые словосочетания. Эта было особенно занятно тем, что свободно общаться и понимать этот язык женщина не могла. Наверное, в такие минуты в ней говорили прочтённые когда-то десять томов «Война и мир» (те самые два с половиной раза). Эта милая особенность была хорошо известна Эдуарду, и он даже научился этим пользоваться. Так сын мог безошибочно определять настроение матери просто по тому, как она говорит.
– Сынок?! Ты уже вернулся?! Comme est inattendu! [Как неожиданно! (франц.)] – Любовь Александровна подошла и обняла сына. – Господи, осунулся-то как. Ты там вовремя ел? А почему не предупредил, что едешь? Я бы тебя встретила.
– Мама, ну перестаньте. Вы же знаете, что я этого сюсюканья не люблю. Как к маленькому, честное слово.
– Ладно-ладно. Всё, не буду. Dites-moi, comment vous? [Скажи мне, как ты? (франц.)] Когда приехал? Ты же должен был приехать только через неделю.
– Я уже час как приехал. И я хотел вам кое…
Но Любовь Александровна перебила.
– ...А я только вернулась из магазина. Представляешь, колбасу ухватила. Пришлось, правда, повоевать. Скорей мой руки и давай за стол.
– Мама, подождите. Я хочу вам кое-что сказать.
– Что? Всё-таки заболел, да? – Любовь Александровна остановилась в холле дома, куда они уже успели дойти, и с волнением посмотрела на сына. – Ну-ка, высунь язык.
– Нет, мама, я здоров. Просто я приехал не один.
– Как не один? А с кем же?
В глазах матери появилась неподдельная тревога. Эдуарду стало страшно, но он уже внутренне был готов к этому разговору. С того самого момента, когда они с Лилией сели в поезд, мужчина в мельчайших подробностях прокручивал в мыслях эту неотвратимо приближающуюся сцену.
Эдуард сделал вдох и как можно спокойнее сказал:
– С невестой. Я встретил девушку, полюбил её и хочу на ней жениться.
У Любови Гусиной от таких слов медленно округлились глаза. Она даже потеряла дар речи. Впрочем, подобное время от времени случалось с её впечатлительной натурой, поэтому Эдуард с волнением ждал первой фразы и всем сердцем надеялся, что она будет на языке Наполеона.
– Сharmant!* [Прелестно (франц.).] – наконец-то вырвалось у Любови Александровны. – Слава Богу! Господь услышал мои молитвы. Сынок, я так рада! Ну, рассказывай скорее, кто она?
Эдуард выдохнул:
– Очень красивая и культурная девушка.
В этот момент на лестнице послышались шлёпанье босых ног, и перед будущей свекровью появилась абсолютно голая Лилия. На заплывшем глазе сизо-бордовым закатом горел фингал.
– Эдик, дорогой… а где у вас тут туалет? – крикнула куда-то девушка, смотря на картины и не замечая хозяев. – А то я сейчас описаюсь.
Эдуард тактично кашлянул. Девушка посмотрела вниз и наконец-то заметила Эдуарда. К нему в ужасе прижималась какая-то пожилая женщина.
– Ой! – испугалась неожиданной встречи Лилия и не сразу сообразила, что стоит голая.
Повисло неловкое молчание.
– Вот... мама, познакомьтесь. Это моя невеста, – только и смог сказать Эдуард и зачем-то добавил: – Уверен, она вам понравится.
Глава пятая
ЧУЖАЯ СВАДЬБА
...После того как уехала «скорая», Эдуард поднялся в покои матери. В комнате витал запах валерианы и скандала. Любовь Александровна, сложив руки на груди, лежала в своей постели и была похожа на очень долго ждущую своего принца спящую красавицу. Лицо её, с закрытыми глазами и приподнятыми домиком бровями, выражало мучительное страдание. Иногда она стонала, и эти стоны были преисполнены горечью рухнувших материнских надежд.
– Мама, как вы? – осторожно спросил Эдуард.
Последовало молчание, но сын знал, что это тяжёлое молчание не сулит ничего хорошего.
– Потрудитесь объяснить, сударь, что это такое? – не открывая глаз, спросила Любовь Александровна, и её голос прозвучал, словно орган в пустом соборе, делая особенное ударение на слово «что».
– Вы о ком? О Лилии?
– Это ужасно! Ужасно! – Любовь Александровна будто бы не слышала вопроса. – Какое счастье, что ваш папенька, царство ему небесное, не видел этого позора. Культурнейшего склада был человек. Извольте знать, сударь, что он никогда бы не дал благословения на этот... прошу прощения, брак.
Любовь Александровна открыла глаза и укоризненно посмотрела на сына. Тот стоял в дверях, низко опустив голову.
– Ах, я решительно не понимаю, что вас может связывать с этой... – Мать разрывалась между привитой бабушкой культурой общения и непреодолимым желанием сказать гадость: – ...этой негодницей! (Консенсус был найден.) Налейте мне воды.
Эдуард плеснул в стакан воды из стоящего на тумбочке графина и вложил в протянутую матерью руку.
– Право, вы хотите моей смерти, милостивый государь, – отпив глоток, продолжила Любовь Александровна, – а иначе зачем вам эта женщина? Вообразите моё положение! Разве об этом я мечтала, когда вот этой вот рукой качала вашу колыбель?
На последней фразе голос женщины надломился, и Любовь Александровна, закрыв глаза, без сил упала на смятую подушку.
– Но я люблю её… – услышала в темноте закрытых глаз Любовь Александровна. – Я, может, впервые за свою жизнь полюбил. Вы должны понять это, мама…
– Ах, оставьте эти пустые слова. Я это уже слышала, не далее как в прошлом году, – снова вскинулась мать. – Напомнить вам, как вы всенепременно желали жениться на той вздорной девчонке из детского отдела вашего магазина? Тогда ваши уверения в том, что вы по-настоящему влюблены, разбились вдребезги о реальность, когда увидали её в подсобке с помощником главбуха.
– Мама, вы опять мне это напоминаете. Я же вас просил! – поморщился Эдуард.
– Но та хотя бы была русской, – всё не унималась Любовь Александровна, – не то что эта беспардонная дикарка.
– Мама, может, вы всё-таки присмотритесь к ней?
Такого измождённая переживаниями душа Любови Александровны выдержать не могла.
– Ах, сударь, мне дурно даже от одной этой мысли. Подите, подите прочь!
Любовь Александровна непримиримо показала дрожащей дланью на дверь и, закрыв глаза, легла на подушку. При этом её рука продолжала указывать на выход. Бледное лицо задёргалось в мелкой судороге, грозясь вот-вот брызнуть горькими слезами.
Эдуард вздохнул и вышел из комнаты. Спустя мгновение он снова открыл дверь и голосом, в котором сквозила издёвка, сказал:
– Ах да, кстати… Я привёз с собой ещё одного работника. Теперь он будет смотреть за лошадьми и жить в отцовском флигеле. Прошу любить и жаловать.
«Указующий перст» Любови Александровны, который по-прежнему гордо был направлен на дверь, вместе с рукой беспомощно шлёпнулся на постель. К вечеру Любовь Александровна всё-таки немного отошла от утреннего потрясения и вышла из своей комнаты, чтобы приготовить ужин. Материнское сердце, как бы оно ни было исполосовано, не могло выдержать того, что сын останется на ночь голодным. О том, что на её кухне будет орудовать эта чертовка, не могло быть и речи. После мучительных раздумий Любовь Александровна пришла к выводу, что время само всё рассудит, нужно лишь помочь её заблудшему сыночку увидеть истину.
А истина была одна. «Она ему не пара! – думала Любовь Александровна, шинкуя лук. –Проблема в том, что Эдику нельзя говорить это напрямую».
Любовь Александровна чувствовала, что в сыне произошли какие-то фундаментальные перемены. Он за пару-тройку дней повзрослел и возмужал, чего не мог сделать за тридцать с лишним лет рядом с ней. В другое время мать порадовалась бы за сына, но в данном случае его непослушание выводило её из себя.
«Немного поиграет и бросит, – надеялась Любовь Александровна, смотря, как шипит на сковороде поджарка. – Нужно просто ускорить этот процесс, а для этого нужно помириться с сыном».
Вечером хозяйка любезно угощала всех ужином. В красивой гостиной был накрыт праздничный стол на четыре персоны со всеми атрибутами светского этикета. Перед каждым стулом на столе с белоснежной скатертью стояла декоративная тарелка, на которой возвышались одна на другой тарелки для супа и салата. Справа от фаянсовых тарелок были разложены столовый нож, маленький ножик для закусок и ложка для супа. (В доме была и фарфоровая посуда, но хозяйка, подумав, всё-таки решила использовать фаянс.) Слева же, зубцами кверху, мирно покоились две вилки: одна для основного блюда, а вторая, маленькая, для закусок. К множеству вилок и ножей добавлялись ещё по одной вилочке и ложке, предназначавшихся для десерта, аккуратно разложенные за тарелками. Хозяйка не забыла и про хрусталь. Перед каждой персоной, играя светом на рифлёных боках, стояли бокалы. Один, чуть повыше, был для красного вина, второй, пониже, – для компота. Также на столе педантичной рукой Любови Александровны строго в определённой симметрии были расставлены солонки, закуски и разложены салфетки. Апофеозом праздничной сервировки служила ваза с сиренью под цвет каёмочек фаянсовых тарелок. Алкоголя на столе не наблюдалось.
Около восьми вечера все собрались за столом. В честь первого совместного ужина гости оделись торжественно. Хозяйка надела белую блузу, чёрную юбку с романтичным бантиком на боку и изящные туфельки на высоком каблуке. Выбор вечернего туалета Лилии пал на красное платье в чёрный горошек, бордовые туфли на высокой платформе и чёрные бусы. Из этого пламенного ансамбля несколько выбивался голубой ридикюль, в котором, впрочем, хранились красная помада, красная нитка и чёрная пуговичка. Элегантный серый костюм Эдуарда в ненавязчивую полоску рядом с этим буйством красного выступал в роли скучного фона. Павел, ввиду отсутствия вариантов радикального преображения, ограничился сменой нижнего белья.
Любовь Александровна, вежливо поприветствовав присутствующих, поставила на стол супницу, в которой дымился куриный суп. Усевшись на своё место, она хотела было предложить гостям не стесняться, но увидев, как Лилия, ловко подцепив ногтями куриную ножку, уже тащит её в свою тарелку, подумала, что это излишне.
– Приятного аппетита, – только сказала хозяйка и взяла себе кусочек сырника.
– И вам, мама, – отозвался Эдуард, наливая себе компот.
– М-м... – послышалось со стороны Лилии.
И только Павел промолчал, потому что где-то читал, что говорить с набитым ртом неприлично.
Для уважающей себя светской хозяйки нет ничего хуже, чем ужин, проходящий в угнетающем молчании. Если только это не ужин близких людей. Лилию и Павла Любовь Александровна никак не могла считать близкими, поэтому мать Эдуарда завела непринуждённую беседу.
– Лилия, расскажите о своей семье, – предложила Любовь Александровна самым миролюбивым тоном.
Лилия на секунду перестала жевать и удивлённо взглянула на будущую свекровь.
– А что о ней рассказывать? Семья как семья… – с набитым ртом ответила цыганка.
– Но, тем не менее, мне интересно.
– Ну, если вам это интересно, то мои родные мама и папа умерли, когда мне было пять лет. Потом меня забрала к себе и вырастила другая семья. У нас часто так бывает. Ничего необычного. А можно ещё супа?
– Боже мой, какой ужас! – вскинула брови Любовь Александровна, но, взяв себя в руки снова приняла доброжелательный вид. – То есть я хотела сказать, что мне очень жаль, что ваша мать так рано ушла из жизни. Она болела?
– Нет, она попала под поезд. Как эта… как её?.. Каретина.
Эдуард, всё это время напряжённо вслушивающийся в разговор женщин, решил вмешаться:
– Каренина. Лилия имела в виду Каренину. Она очень любит читать.
– Вы любите литературу? Похвально. И что вы читаете сейчас? – спросила Любовь Александровна.
– Сейчас ничего. Сейчас я ем.
Мать взглянула на сына, и в этом взгляде не было ничего хорошего.
– Я имела в виду, что вы читали в последний раз? – тоном теряющего терпение человека переспросила мать.
– А… не помню. Но эта книга мне не понравилась, там картинок почти не было.
– Гм... очень мило! – иронично заметила Любовь Александровна. – И сколько же вам лет сейчас?
– Уже восемнадцать, – соврала Лилия и запихнула в рот кусок колбасы.
Снова повисло молчание. Хозяйка решила заполнить его подачей второго блюда. Эта была аппетитнейшая свинина в сливочно-грибном соусе. Мать поставила большое блюдо на середину стола и вежливо предложила угощаться. Через пару минут от аккуратно нарезанных кусочков мяса остались только приятные воспоминания.
– А вы к нам надолго? – спросила хозяйка вечера, не отрывая глаз от своей тарелки, на которой всё ещё одиноко лежал кусочек сырника.
Отдельное ударение на слове «вы» ясно дало понять, что она обращалась к Павлу.
– Мама, Паша будет смотреть за лошадьми, – вмешался Эдуард. – Я же вам говорил.
– Вот как? А он справится? Ты же знаешь, как отец любил их.
– Не волнуйтесь, мама, он отлично ладит с лошадьми.
– Называйте меня просто Пашка, – наконец-то подал голос Павел.
– Пашка? – будто увидев слизняка, скривилась Любовь Александровна. – И вы не сочтёте это фамильярностью?
– Мама, – снова посчитал нужным вмешаться Эдуард. – Павел – простой человек. Будьте уверены, его такое обращение не покоробит. И кстати, Лилию тоже можете называть на «ты». Не чужие ведь…
За столом опять воцарилась наэлектризованная тишина. Слышны были только чавканье Лилии, скрежетание приборов и позвякивание столовой посуды. Любовь Александровна изо всех сил старалась придумать новую тему для разговора, но, ничего не сообразив, пошла за третьим блюдом. Им оказалась нежная телячья вырезка с жареным луком и тушёными овощами.
– А где вы работаете... то есть работали, Павел? – попыталась ненавязчиво спросить Любовь Александровна.
– Я работал в цирке, пока он не сгорел.
– Боже, так вы из того самого цирка? – с вполне искренним интересом оживилась мать Эдуарда. – Я слышала про пожар в Сочи, это ужасно.
– Да, именно оттуда, – отозвался Павел и запихнул в рот кусок, давая понять, что разговор на эту тему ему неприятен.
По крайней мере, Любовь Александровна поняла именно так, хотя, может быть, Павел просто, безо всякой тайной мысли, запихнул в рот кусок говядины.
– Павлу нужно восстановить документы, потерянные в пожаре, а остановиться ему в Москве было негде. Поэтому я его и позвал пожить у нас, как раз и за лошадьми присмотрит, – вновь встрял в разговор Эдуард.
Планировавшийся лёгкий застольный разговор совершенно не клеился. Спотыкаясь на каждом шагу, он тоскливо плёлся по банальным и избитым темам, словно бы нарочно стремясь заглохнуть после каждого сказанного слова. После очередной повисшей паузы Любовь Александровна не нашла ничего лучше, как обратиться к сыну:
– А я сегодня была на могилке отца. Представляешь…
Что именно Эдуард должен был представить, так и осталось неизвестным, потому что как раз в этот момент Лилия смачно отрыгнула. Неблагопристойный для светского ужина звук больно ударил по барабанным перепонкам Любови Александровны, сделав большую пробоину в тонкой душевной организации светской львицы. Попранный вопиющим неуважением застольный этикет требовал немедленного возмездия. Из последних сил цепляясь за ускользающие нити культуры общения, Любовь Александровна попыталась сформулировать своё негодование. Подсознание автоматически отослало её на пять столетий назад:
– В сие одрине реснота благодать великая есть, – изрекла Любовь Александровна. – Устыдилась бы, отроковица! Негоже досадити чадь да срамиться аки... тожде... мамонь окаянная.
В первую секунду Павел и Лилия так опешили от этого случайного набора звуков, что уставились на Любовь Александровну как на умалишённую.
«В этом доме приличие – это дар божий, – тем временем напряжённо переводил для себя Эдуард. – Постыдилась бы, девушка! Нехорошо (и это мягко сказано) оскорблять семью и позориться как... эта самое... обезьяна безбожная».
Любовь Александровна, выдержав грозную паузу, гордо встала, поправила безукоризненно белую блузу и, трагически прищурив глаза, вышла из комнаты.
Повисло неловкое молчание. Было слышно, как на стене тикают часы и большая чёрная муха, противно жужжа, бьётся о стекло. В первый раз за всё время Эдуард испытал стыд за свою невесту. Облокотившись на стол и обхватив голову руками, он размышлял о сложившейся ситуации. Призрачная надежда на то, что мать примет невесту, хрупкой бабочкой упорхнула в небеса, помахав на прощание розовым крылом. На душе было тяжко и мерзко. Стена социально-культурного предубеждения оказалась непробиваемой, и жалкие потуги Эдуарда преодолеть отчуждение так и остались пустыми мечтами. Варианты закончились. Резко захотелось серого дождя, грустной песни и горькой водки.
– М-да... я думаю, о десерте не может быть и речи, – философски заметил Павел и встал из-за стола.
Вечером, когда все уже ложились спать, Эдуард набрался смелости и зашёл в комнату матери, чтоб пожелать спокойной ночи. Перед тем как постучаться и открыть дверь, он на минуту задумался.
Эдуард действительно любил её и до этого дня старался не расстраивать. Теперь же, после случившегося, Эдуард поражался собственной дерзости...Подумать только, пойти наперекор и привести домой невесту, предварительно не посоветовавшись с матерью! Это форменное самоуправство, нарушение незыблемых устоев семьи и плевок в душу человеку, который «всю жизнь мучился, растил и воспитывал» единственное и горячо любимое чадо. Да он на самом деле спятил! Или всё-таки нет? Может, это как раз и есть настоящая жизнь? Сделать осознанный, пускай даже спонтанный, но от этого не менее желанный выбор. Сделать выбор самому и защищать его как единственно верный впервые за всю свою парниковую жизнь. Эдуарду вспомнилось, что даже трусы на нём (широкие семейники в зелёный листочек), и те выбирала мать, потому что другие, которые понравились Эдуарду, по мнению Людмилы Александровны, слишком сильно сдавливали мошонку. Поворачивать вспять было поздно. Эдуард любил мать, но эта сыновья любовь была слишком привычна и обыденна. Она была словно большой и красивый ковёр, к которому все так привыкли, что никто уже и не замечает. Любовь же к Лилии была совершенно иной. Это было новое, пьянящее, пронзительное, окрыляющее чувство. Тяга к женщине, которой желаешь обладать и не хочешь ей подчиняться. Эта любовь, как свежий ветер, ворвавшийся из внезапно открытого окна в затхлую комнату и принесший с собой аромат свободных, цветущих буйным цветом равнин. Эдуард чувствовал себя декабристом, восставшим против угнетателя царя (теперь именно так он видел свою мать) во имя высших идеалов. Выбор был сделан. В битве за душу Эдуарда материнская любовь проиграла.
...Коротко постучавшись, Эдуард открыл дверь. В комнате было темно. Не горел даже ночник. Перед открытым настежь окном на фоне тюлевой занавески и уличных фонарей виднелся знакомый Эдуарду с детства силуэт. Любовь Александровна курила, глядя на ночную улицу. Отчётливо видимые на свету длинные нити дыма, отделяясь от уголька сигареты, поднимались к потолку, рисуя в воздухе только им понятные узоры. На звук открывающейся двери она даже не повернулась.
– Добрый вечер, мама, – отчего-то охрипшим голосом произнёс Эдуард. – Я пришёл пожелать вам сладких снов.
Последовала холодная тишина. Эдуард вздохнул и хотел было закрыть дверь, как услышал голос матери:
– Кто эти люди, сын? Где ты их нашёл? – сказала она, не поворачиваясь к Эдуарду.
Голос был ровный, даже чуть апатичный. Таким голосом обычно люди в безнадёжной стадии онкологии говорят: «Я умираю».
Эдуард вздохнул и приготовился к решительной битве.
– Я не этого ждала всю жизнь. Разве может интеллигентный, культурный человек нашего статуса быть счастлив с этой цыганкой? Знаешь, что я чувствую сейчас? Я будто бы перенеслась на двадцать лет назад, в тот день, когда чуть не потеряла тебя. Помнишь, когда ты застрял в том проклятом туннеле? Где мы только не искали! Обшарили все дворы, все закоулки. Даже водолазов вызвали, чтоб дно реки прочесать. Боже, я чуть не умерла тогда. Я думала, что потеряла тебя, моего единственного сыночка. Вот и сейчас мне кажется, что потеряла тебя. Ты рядом, а будто бы это не сын вовсе.
Слова матери вызвали в памяти неприятное чувство давно минувших дней, когда, ещё совсем мальчишкой, Эдуард на спор пролез в старый туннель, прорытый ещё во времена революции. Это был старый, полуразрушенный узкий проход под землёй, свод которого со временем кое-где просел и грозил вот-вот совсем обрушиться. Эдуард, подстёгиваемый другом, в полной темноте, на ощупь, успел пройти по нему метров двадцать, когда от неловкого движения трухлявое бревно, державшее арку, хрустнуло и тяжёлая земля погребла мальчишку под собой. Подождав немного, приятель стал звать Эдуарда, но тот, придавленный тяжёлой сырой землёй, не мог не то что двинуться, но и ответить. Даже чтобы сделать простой вздох, нужно было прикладывать немало усилий. Приятель подумав, что натворил непоправимое, струсил и, как и любой ребёнок в его возрасте, просто убежал домой. Только ночью кто-то догадался заглянуть в туннель, откуда и вытащили почти бездыханное тело ребёнка. С тех пор у Эдуарда развилась тяжелейшая форма клаустрофобии, которой он мучился по сей день. Выход туннеля, чтобы не повторялись подобные несчастья, завалили толстым слоем земли вперемешку с гравием и благополучно о нём забыли.
– Мама, – попытался оправдаться Эдуард, – я понимаю, она слегка странная и несколько выбивается из твоего представления о невестке. Но дай ей время. Она исправится.
– Исправится? – Любовь Александровна резко повернулась к сыну. – Эта? Сынок, что с тобой происходит? Ты ослеп? Она типичная цыганка, хабалка. Она выросла среди цыган. Она никогда не сможет переродиться во что-то подобающее культурному обществу.
– Мама, о каком обществе вы говорите? – вдруг с удивлением услышал свой голос Эдуард. Голос был чуть визгливым, но в нём чувствовалась уверенность. – Вы всё ещё живёте прошлым. После смерти отца мы стали никому не нужны. И если кто-то приходит к нам, то только в надежде уговорить вас продать этот дом. Касательно Лили… эту девушку я люблю и хочу на ней жениться. И вы не вправе указывать мне на то, что мне следует делать. Спокойной ночи, мама.
Сказано было слишком много. Синим пламенем заполыхал последний мост. Эдуард развернулся и твёрдым шагом вышел из комнаты.
– Абие покайся, отрок, понеже аз есмь твойна мать и домовит сие хором... – послышался голос Любови Александровны вдогонку сыну, но сразу же прервался громким хлопком закрывающейся двери.
***
День свадьбы был безнадёжно испорчен мерзким холодным дождём, так что прогулка по Красной площади была отменена. Молодые остались дома, где в гостиной уже был накрыт праздничный стол для самых близких. Самых близких набралось около двадцати пяти человек, среди которых был и Михаил Иванович Валов – давний друг отца. Это был высокий широкоплечий мужчина, выглядевший намного моложе своих шестидесяти пяти лет. Его монументальная фигура, будто бы высеченная из цельной глыбы, нависала над всеми присутствующими, без слов подчёркивая свою значимость. Михаил Иванович, несмотря на свои годы, по-прежнему был на высоком счету у начальства (которое само не отличалось молодыми кадрами) и занимал ответственный пост в министерстве внутренних дел, пребывая в чине генерал-лейтенанта. Отличавшийся жёстким и упрямым характером, Валов умел тонко лавировать и выстраивать целые стратегии для достижения цели в долгосрочных планах. Он был крайне скуп на положительные эмоции и позволял себе улыбнуться в самых редких случаях, когда рядом стоящие чуть ли не надрывали себе животы от хохота после удачной шутки. Так как выражение лица при улыбке было неестественным для мимических мышц Михаила Ивановича, они быстро уставали и сразу же переходили в исходное положение. Исходным положением валовских черт лица были сурово насупившиеся брови, презрительно поджатые губы и холодный пронизывающий взгляд. Тем временем праздничное застолье вплотную подошло к той тонкой грани, после которой милые беседы о погоде переходят в разнузданную гульбу с битьём посуды и морд.
Слово взял Михаил Валов:
– Я хочу выпить за молодых, – раздался густой бас, и все, уважительно притихнув, повернулись к генерал-лейтенанту. – Эдика я знаю с малых лет. Он вырос на моих глазах. Жаль, его отец, Володя, не дожил до этого счастливого момента. Он был настоящим товарищем, с которым мы прошли огонь и воду.
Валов сделал скорбную паузу.
– Эдуард, поднимаю этот бокал за твоё счастье, – продолжил он, – и в знак уважения и на правах друга семьи дарю невесте вот эту милую безделицу.
С этими словами Валов протянул Лилии золотой кулон с изумрудом.
– Горько! – гаркнул генерал и залпом выпил рюмку.
– Горько, горько! – заорали за ним захмелевшие гости.
Поцелуй молодых на счёте «двенадцать» прервал один из гостей, который, не жалея хрустальной посуды Любови Александровны, стал безжалостно стучать вилкой по бокалу.
– Товарищи, я хочу сделать заявление, – заплетающимся языком произнёс гость, – прошу минуточку внимания. Дело в том, что мы с Катенькой решили пожениться, и я сделал ей предложение.
Он повернулся к белокурой девице, сидящей рядом с ним. Та, жеманно улыбнувшись, бросила мимолётный, преисполненный чувства собственного превосходства взгляд на незамужних подруг.
– Свадьба назначена на тридцатое декабря этого года, – продолжил гость. – И я хочу пригласить всех присутствующих на наше торжество. Отдельно приглашаю Эдуарда с его молодой женой за то, что не забыли и про нас.
– Спасибо, Николай, обязательно придём, – поблагодарил Эдуард.
– А теперь цыганочку! – крикнул кто-то из-за стола, и маленький оркестр заиграл «Мою цыганочку» Высоцкого.
Лилия выбежала в центр и, размахивая фатой, начала танцевать. За ней из-за столов пошатываясь встали пьяные мужчины и, окружив её, стали хлопать.
– Эй, цыганка, погадай мне! – кричал кто-то из гостей.
– Сперва позолоти ей руку, – смеясь отвечал другой.
Когда же оркестр заиграл «Очи чёрные» и один из пьяных гостей на словах «поцелуй меня, не отравишься» полез с поцелуями к невесте, Эдуард не выдержал и налил себе водки.
Любовь Александровна, которая в этот день принципиально не выходила из своей комнаты, начала собирать чемодан...
Глава шестая
СЕМЕЙНАЯ ЛОДКА
...Требовательный звон казённого телефона рассеял туман воспоминаний, и в жизнь Эдуарда снова ворвалась белая стена кабинета.
Филатов снял трубку.
– Филатов слушает. Да, да… уже выезжаю. Буду через час. – Майор положил трубку и обратился к Эдуарду: – Что дальше-то было?
– Сам я, после выпитого, свадьбу вообще не помню, – промямлил задержанный. – Мне потом Пашка рассказал, что дальше было.
– И что он рассказал?
– Сказал, будто бы я вдруг ни с того ни с сего встал из-за стола, подошёл к одному из гостей и влепил ему оплеуху. Тот недолго думая ответил, и началась драка. Кто-то бросился разнимать. Им тоже досталось. В общем, «всё смешалось в доме Облонских».
– У каких ещё Облонских? – не понял майор.
– Это цитата из «Анны Карениной», – вяло попытался объяснить Эдуард.
– Вы мне тут мозги не пудрите. Здесь вам не слёт литераторов. Говорите по существу, – рассердился Филатов.
***
...А свадьба пела и плясала.
Дерущаяся толпа в глазах Эдуарда смешалась в один пёстрый туман. Этот туман хаотично передвигался по комнате и ругался матом. В какофонии женского визга, звона бьющейся посуды и мужской ругани Эдуард различил шаги, спускающиеся по лестнице. Эту поступь он мог различить из тысяч других. Любовь Александровна, держа в руках чемодан, поспешно спустилась со второго этажа и вышла из гостиной. По дороге она бросила брезгливый взгляд на разбитый в хлам столовый гарнитур, сломанные стулья и заляпанные винегретом стены. На улице уже ждало такси.
Когда Эдуард выбежал на улицу, женщина уже садилась в машину. Водитель дал газу и, разбрызгивая грязь, резко тронул с места.
– Лёша, томози! – закричал Эдуард вслед уносящемуся прочь автомобилю.
Но машина, быстро набирая ход, уже скрывалась за поворотом.
– Мама! Ну и чёрт с тобой! Уезжай! Не хочу тебя больше видеть!
Так впервые в жизни Эдуард перешёл с матерью на «ты».
Плюнув вслед скрывшейся из виду машине, взбешённый Эдуард вернулся к дому. Там, возле входа, переминаясь с ноги на ногу, стояли двое бездомных – мужчина и женщина. Судя по лохмотьям вместо одежды и давно не мытым телам, их жизнь, обильно орошённая алкоголем, уже давно пошла под откос. Характерно вспухшие лица не давали полного представления об их возрасте, но, судя по общим чертам, им ещё не перевалило за тридцать.
– А это что такое? – спросил Эдуард Павла, который в этот момент выносил бездомным какие-то продукты.
– Они еду попросили. Жалко же...
– Убери этих уродов от моего дома, – взревел Эдуард и сильно пнул одного из них.
Это оказалась женщина, которая от сильного пинка растянулась на грязной дороге. Замычав от боли, она, не вставая, стала уползать в сторону.
***
Наутро после свадьбы стоял густой туман, запеленавший всё в белую мглу. В разбитой гостиной, на чудом уцелевшем диване лежал какой-то мужчина в разодранной рубашке и с расцарапанным лицом. Его шумный храп долетал до второго этажа, где в своей постели, по-детски свернувшись клубочком, спала Лилия. Рядом, на полу, валялось её свадебное платье со следами чьих-то ног.
В комнату вошёл Эдуард:
– Милая, проснись. Ты не знаешь, где мама?
– Ммм? – послышалось в ответ.
– Я спрашиваю, где мама? Её нет в своей комнате.
– Она уехала…
– Уехала? Куда? Почему?
– Откуда я знаю… просто села в такси и уехала, – промямлила Лилия и, зевнув, повернулась на другой бок.
***
Со дня свадьбы прошло два месяца. Эдуард, шурша опавшей листвой, шёл по улице и думал о событиях последних месяцев. А думы были не из весёлых...
Любовь Александровна, не смирившись с выбором сына, уехала жить к своей сестре, оставив чаду классический выбор, обозначенный как «или я, или она», и прекратила всякое общение до тех пор, пока выбор не будет сделан в её пользу. Тем временем молодожёны привыкали к совместной жизни, осваивая новый быт. Лилия оказалась совсем неважной хозяйкой. Готовила она не то что невкусно, а вообще не умела этого делать. Даже яичница у неё всегда была или подгоревшая или недосоленная, так что Эдуарду оставалось только с сожалением вспоминать о маминых расстегаях и борщах. Кроме того, Эдуард, привыкший к идеальной чистоте, с трудом переносил постоянный беспорядок. У него даже выявилась аллергия на пыль, которая до того за неимением причины никак себя не выдавала.
Единственное, что у Лилии получалось хорошо, это секс. У неё никогда не болела голова, она была готова отдаваться мужу всегда, где бы он ни захотел и по первому его намёку. При этом Лилия никогда сама ничего не требовала и удовлетворялась тем, на что был способен Эдуард в свои неполные тридцать лет. Это умение Лилии-женщины Эдуарду как мужчине нравилось больше всего, и за это Лилии-хозяйке прощалось всё.
...Неприятный визг тормозов прервал мерное течение мыслей. Рядом с Эдуардом остановилась чёрная волга с правительственными номерами. Эдуард оглянулся и узнал сидящего на заднем сидении мужчину в форме. Это был Михаил Валов.
– Эдик, садись, – привычным приказным тоном предложил Валов.
Эдуард сел рядом с Валовым на заднее сидение, и машина плавно тронулась с места.
– Ну как она?
– Вы о чём?
– О жизни… о семейной жизни.
– Всё нормально, спасибо.
– А почему сегодня пешком?
– Дал отдохнуть своей старушке, – сказал Эдуард и вспомнил о своей старенькой машине, сегодня оставленной в гараже.
– М-да, я помню, как твой отец покупал эту «Победу», – ударился в воспоминания генерал-лейтенант, и его лицо приобрело неестественно умилённое выражение. – Царство ему небесное. Эх, обмыли мы тогда машину будь здоров! Да, пережила она хозяина... Мы ж с твоим отцом прошли огонь и воду.
– Знаю-знаю, дядя Миша. Вы это мне говорите каждый раз.
– Да как мне не говорить? Я ж переживаю за тебя! Ты ж вырос у меня на глазах.
– Так переживаете, что хотите переселиться в наш дом, – неожиданно для себя выпалил Эдуард.
Умиление исчезло с лица Валова так же резко, как и появилось.
– Дурень ты, Эдуард. Магазину твоему скоро крышка. Видишь, везде кооперативы, как грибы после дождя растут. Ну подумай, зачем вам троим такой огромный дом, а? Я ж хорошие деньги предлагаю. На всю жизнь хватит и детям останется.
– Остановите машину! – крикнул Эдуард водителю.
– Вот упёртый, а! Весь в отца. Такой же непробиваемый дурень.
– Остановите машину! – уже требовательнее повторил Эдуард.
Водитель будто не слышал Эдуарда и спокойно вёл автомобиль. В этом автомобиле мог командовать лишь один человек – Михаил Валов.
– Ладно, останови, – небрежно махнул рукой Валов, и водитель тут же послушно нажал на тормоза.
Эдуард поспешно вышел из автомобиля и, сверля взглядом мостовую, быстро зашагал прочь.
– Учти, сынок, я всегда беру то, что хочу, – послышалось ему вдогонку. – Рано или поздно, но беру. Я умею ждать…
Эдуард прибавил шаг и скрылся за соседним домом.
Невесёлое настроение было ещё больше испорчено, так что Эдуард пришёл домой чернее тучи. Решив проведать лошадей, он заглянул в конюшню. В нечищеных стойлах понурив головы стояли два ахалтекинца. Эдуард заметил, что корма в кормушках не было, а в поилках на донышке мутнела грязная вода. «Вот тебе и работничек», – невесело подумал Эдуард и сам налил из ведра воды. Выйдя из конюшни, Эдуард оглянулся в поисках Павла.
В это время из-за дома выехала старенькая «Победа». За рулём автомобиля сидела Лилия, а рядом, на пассажирском сидении, устроился Павел. Левой рукой приобняв девушку за плечи, правой он помогал ей водить. Молодые люди, не замечая Эдуарда, весело смеялись.
Эдуард сжал губы и представил, как машина разгоняется и врезается в дом.
...Она взрывается, и из охваченной пламенем машины выпадает Павел. Истекая кровью и корчась от боли, он смотрит на Эдуарда взглядом, полным мольбы о прощении.
– Зачем ты это сделал? – вдруг спрашивает Лилия, смотря на мужа из горящей машины.
...На этом месте Эдуард отогнал от себя дурные мысли и зашагал навстречу машине.
– Дорогой, ты уже вернулся? – как ни в чём не бывало защебетала Лилия, выйдя из машины.
Павел, уткнувшись в свои электронные наручные часы, прошёл мимо.
– Не утруждай себя, я уже всё сделал сам, – раздражённо бросил тому вслед Эдуард.
– Что с тобой? Ты не в настроении? – с этими словами Лилия нежно прильнула к мужу.
– Кто вам разрешил выводить машину из гаража?
– Я думала, для этого не надо разрешения. Захотелось научиться водить машину.
– А он, – Эдуард кивнул в сторону Павла, – сразу напросился в помощники? Я смотрю вам весело вместе.
– Нет, он не напрашивался, – замурлыкала Лилия. – Это я его попросила. Ты же сам всегда говоришь, чтобы я была современной, культурной женой. У всех твоих друзей жёны умеют водить машину. Я тоже хочу. А как бы я научилась водить машину, если б даже не смогла вывести её из гаража?
С этими словами она нежно поцеловала мужа в губы.
С ней невозможно было говорить серьёзно. Любой разговор, который ей не нравился, она прерывала самым простым, но от этого не менее действенным способом. Она тут же закрывала мужу рот страстным поцелуем, который действовал, как паз, выбивающий пробку. В этот момент страсть начинала туманить сознание, мысли путались, тело отзывалось нетерпеливым трепетом. Всё остальное сразу казалось лишним и мелочным. Трезвость ума приходила только после близости, когда уже не хотелось портить приятный момент сложным разговором.
– Ладно… не важно.… Просто я сегодня не в настроении, – с этими словами, загнав машину в гараж и закрыв двери на ключ, Эдуард приобнял жену за талию и повлёк в дом.
Из окна флигеля взглядом, полным презрения, за ними наблюдал Павел.
Ночью Эдуарду не спалось. Проворочавшись в постели и скомкав под собой большущий ком из простыни, Эдуард наконец сдался и понял, что уснуть у него не получится. Он поднялся с постели и осторожно, чтобы не разбудить жену, направился в свой кабинет. Ночь была ясной. Огромная луна освещала рабочую комнату холодным светом. Эдуард открыл сейф и достал отцовское ружьё. Проведя пальцами по металлу, он попытался по памяти нарисовать замысловатый узор на рукоятке. Тут же были знакомые инициалы «В.Г.» по имени и фамилии отца. Привычным движением вскинув приклад к плечу, Эдуард прицелился в сторону ворот. Поводив мушкой по воротам, он остановился на окне флигеля Павла. В свете луны гладкий металл оружия сиял металлическим блеском.
В памяти всплыла одна история из прошлого. Шестнадцатилетний Эдуард с отцом на охоте. Отец прицеливается в бегущего зайца. Гром выстрела, и заяц, сделав кульбит в воздухе, падает на землю. Отец довольно улыбается и закуривает.
– Пап, а ты убивал людей?
– Приходилось, сынок. Была война.
– А мог бы убить человека не на войне?
– Если бы пришлось защищаться, то, наверное, мог бы.
– А я вот… не знаю. Это значит, что я трус?
– Сынок, в жизни бывают разные ситуации. Один и тот же человек может быть и трусом, и храбрым, готовым и на благородство, и на низость. Нет всё время хороших и всё время плохих людей. И никто не знает, как он поступит в той или иной ситуации.
– А что человек ощущает, когда отнимает жизнь у другого?
Отец задумался.
– В зависимости от ситуации он может ощущать и радость, и сожаление. Я же говорю, в жизни бывают разные ситуации. И нет одной какой-то меры хорошего и плохого. Все мы под богом ходим, и только ему одному ведомо, что будет с нами.
Отогнав от себя тягостные воспоминания, Эдуард протёр дуло масляной тряпкой и положил ружьё обратно в сейф. Дверца сейфа никогда не запиралась на ключ. Да и сам ключ был давно потерян. Эдуард привык к такому положению вещей и не придавал этому большого значения. Но сейчас подумал, что всё-таки хорошо бы вызвать мастера и сменить замок. А лучше сменить сам сейф.
Глава седьмая
ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ ТЁПЛОЙ ЗИМЫ
30 декабря 1987 года небеса прорвало. Снег пошёл сплошной белой стеной, укрывая промёрзшую землю толстым пушистым покрывалом, так что оставленные с вечера у обочины машины превратились в белые курганы с торчащими выхлопными трубами. Снегопад усиливался с каждым часом, и вместе с ним росло количество звонков между городскими службами и Гидрометцентром. Синоптики удручённо разводили руками и призывали готовиться к худшему. Дворники, почуяв момент, тут же стали важничать и в ответ на просьбы граждан работать побыстрее только лишний раз закуривали и загадочно смотрели вдаль.
Было около пяти часов вечера, когда Эдуарду позвонили и настоятельно попросили срочно явиться в управление промторгами города Москвы. По тону говорящего было ясно, что беседа предстоит неприятная. Быстренько прокрутив в мыслях все варианты предстоящего разговора и обдумав возможные ответы, Эдуард собрал нужные бумаги и поехал в Управление. Скорее всего, думал он, стоя перед серым зданием, это из-за годового отчёта, в котором была допущена досадная опечатка. Но из-за такого пустяка, пускай даже из-за которого цена за валенки Битцевской фабрики взлетела до стоимости квартиры рядом с одноимённым парком, на ковёр не вызывают. Может быть, ещё думал Эдуард, это из-за работ по обеспечению безопасности на объектах торговли, организованной министерством после нашумевшего ограбления инкассаторов в универмаге «Молодёжный» в прошлом году? Неизвестность пугала больше всего. Эдуард был мрачен, но про себя считал, что к разговору готов.
Он ошибался...
– Как закрывают?! – Эдуард вскочил со стула, словно ошпаренный.
Секундой назад чиновник из управления с фирменным красно-белым значком «МОССКУППРОМТОРГ» на лацкане пиджака сообщил, что магазин, которым много лет заведовал Эдуард Гусин, закрывают.
– А так, Эдуард Владимирович. Распоряжение министерства торговли. Ваш обувной магазин перепрофилируют в Дом быта. Начальство решило, что в свете всеобщей кооперации невыгодно держать обувной магазин, в котором, кстати, из обуви только галоши.
– Так везде дефицит.
– Знаю-знаю, Эдуард Владимирович. Но не нам с вами решать подобные вопросы. Есть приказ, что с нового года магазин закрывается.
– А люди? Куда их девать?
– Люди? – Чиновник отхлебнул чай из стоящей на столе кружки и многозначительно посмотрел на обескураженного Эдуарда. – Я бы на вашем месте о своей шкуре позаботился. Судя по приказу, лично по вам никакой информации нет.
– То есть как? – не понял Эдуард. – Меня тоже выбрасывают на улицу?
– Не знаю. Получается так.
– Но позвольте... Столько лет отработал. Ни одного взыскания от начальства. Наоборот, наш магазин числился в передовиках в своей области.
– Мне самому непонятна эта история. Обычно при закрытии магазина кого-кого, а управленческий состав пристраивали куда-нибудь. А тут… в общем, странно как-то. Но есть постановление, которое я обязан до вас донести.
– Но почему сейчас? Почему это не могли сказать хотя бы за две недели?
– Не могу знать, Эдуард Владимирович.
– Что же мне теперь делать?
– Отмечать Новый год. Боюсь, ничего другого вы в этой ситуации уже не сделаете.
С этими словами чиновник встал и протянул руку в знак того, что разговор окончен.
Выйдя из управления, Эдуард, теперь уже без пяти минут бывший заведующий магазином, не разбирая дороги, пошёл по заснеженной улице. У него было такое чувство, будто кто-то только что со всего размаха приложился сковородкой по его голове. В ушах стоял громкий звон, мысли путались, догадки, одна бредовее другой, сменяли друг друга, внося свою лепту в сумбур, творящийся в душе. Он оказался совершенно не готов к такому повороту событий. За столько лет привыкший к своему рабочему месту, Эдуард словно корнями прирос к нему. Этот пост вносил в его жизнь стабильность, уверенность и надёжность. В общем, всё, что должен чувствовать состоявшийся мужчина, прочно стоящий на ногах. Теперь же кто-то простым росчерком пера превратил могучее дерево в лёгкую пушинку, носимую из края в край изменчивой прихотью ветра. Эдуард подумал, чем он ещё может заняться, чтоб содержать семью, и пришёл к удручающему выводу, что из всего многообразия профессий и ремёсел он умеет только быть заведующим магазином.
Мимо, скрипя свежим снегом, проходили люди с ёлками наперевес. Перед винно-водочными магазинами выстраивались длиннющие очереди за игристым. Всё дышало праздничным настроением и предвкушением веселья. В круговерти приятных новогодних хлопот никому не было дела до мужчины, который, опустив голову, понуро плёлся мимо украшенных витрин магазинов, с которых, будто бы издеваясь, ему весело улыбался нарисованный на стекле Дед Мороз.
Тем временем Эдуард забрёл в какой-то грязный переулок и упёрся в глухую стену, на которой мелом было выведено всем известное слово из трёх букв. Первой мыслью Эдуарда было то, что он дошёл до места назначения, куда его культурно отправили официальным приказом министерства торговли. Задний двор какого-то общепита, с подтаявшим снегом, грязью и вонючими стоками, был отличным антуражем для тех чувств, которые сейчас в нём бушевали. Он оглянулся и с удивлением обнаружил себя в нескольких кварталах от места, где оставил машину. Вздохнув, Эдуард повернулся и сделал шаг к выходу из переулка. В следующее мгновение он увидел, как грязная земля стремительно приближается к его лицу, и даже успел вспомнить, что сегодня был приглашён на свадьбу. Раздался шлепок, и элегантно одетый мужчина в строгом чёрном пальто растянулся на грязной земле...
...Эдуард до этого момента даже подумать не мог, что может так виртуозно ругаться. Матерные слова на языке Пушкина и Достоевского разносились по переулку, в эмоциональном порыве объединяя в многосложных предложениях небеса и министерство (в общем), и дворников с Дедом Морозом (в частности). Прекрасный в своей искренности русский мат эхом отражался от грязной стены и приносил странное успокоение. Немного остынув, Эдуард придирчиво осмотрел себя. Одежда была безнадёжно испорчена, так что, подумал он, придётся возвращаться домой и переодеваться к свадьбе. Радоваться за молодожёнов совсем не хотелось, и Эдуард решил долго на празднестве не задерживаться.
Под понятливыми взглядами прохожих (ну с кем не бывает? отмечал Новый год человек и чуть-чуть перебрал) Эдуард доковылял до машины и поехал домой. Утром, перед тем как выйти из дома, он предупредил Лилию, что вечером будет поздно, так как прямо с работы поедет на свадьбу. Брать жену с собой на различные мероприятия Эдуард пока ещё остерегался. А сейчас звонить домой и просить, чтобы жена приготовила одежду, не было времени. Дорога до дома показалась вечностью. Старенькая «Победа», отчаянно ревя четырёхцилиндровым двигателем, рулила меж сугробов и засыпанных снегом сосен. Когда взбешённый Эдуард наконец-то добрался до дома, было уже темно. Оставив машину на улице, он открыл ворота и вошёл в дом. Свет горел только в их с Лилией спальне. Проходя в дом, Эдуард по привычке бросил взгляд на конюшню. В окне флигеля зияла темнота. Тут же в голову полезли нехорошие мысли и предчувствия.
Торопясь и перескакивая через две ступеньки, Эдуард поднялся на второй этаж и открыл дверь спальни. В освещённой ночником комнате на кровати лежала голая Лилия и преспокойно читала газету. Эта была газета «Правда», которую он выписывал вот уже четвёртый год. Странно было не то, что Лилия читала её, держа вверх ногами, а то, что она вообще читала. Насколько знал Эдуард, жена никогда не увлекалась чтением политических газет.
– Милый? – Казалось, что Лилия искренно удивлена. – Ты же говорил, что будешь поздно.
Эдуард прошёл на середину комнаты. Только сейчас Лилия разглядела, что одежда на муже испачкана.
– Что с тобой случилось? Почему ты в таком виде?
– Не твоё дело. Почему ты лежишь голая? – резко ответил вопросом на вопрос Эдуард.
– Потому что я только что искупалась. Что, теперь я не могу в собственном доме полежать голая?
Ответ был резонный, но Эдуард продолжал недоверчиво оглядываться по сторонам. В этот момент Эдуард заметил под кроватью мужской ботинок. Он поднял его с пола и стал рассматривать.
– Это что, Лилия?
– Откуда я знаю? – ответила девушка, накидывая на себя халат.
– Чьё это? – повторил Эдуард.
– Что ты пристал? Твой это ботинок. Не видишь, что ли? Вечно разбрасываешь свои вещи по всему дому.
– У меня не было такой обуви.
– Да у тебя куча разной обуви. Ты же директор обувного магазина.
– Где Павел? – взревел Эдуард, переведя яростный взгляд на жену.
– А я откуда знаю? – спокойно ответила Лилия и, качая бёдрами, подошла к Эдуарду, намереваясь повторить свой извечный трюк с поцелуем.
– Врёшь. Всё ты прекрасно знаешь. Он здесь?
– Милый, с тобой всё в порядке? Ты какой-то странный. Иди ко мне, мне так тоскливо было весь день без тебя, – и Лилия провела рукой по упругой груди.
Соблазны не работали. Эдуард в священном гневе обманутого мужа метался по комнате, заглядывая в каждый угол. Он вбил себе в голову, что жена ему изменяла, и твёрдо намеревался разоблачить блудницу.
– Где он? – Эдуард подошёл вплотную к супруге. – Он должен быть в своей комнате, но его там нет!
– Перестань. Ты несёшь чушь! – Во взгляде Лилии блеснул страх.
– Не держи меня за идиота! Я же вижу, как ты на него смотришь. Может, я уже владелец метровых рогов и даже не подозреваю об этом?
– Да что ты такое говоришь? Я тебе никогда не изменяла… – На последнем слове женский голос задребезжал, и из чёрных глаз брызнули слёзы.
...На подавляющее большинство мужчин женские слёзы действуют одинаково: они отрезвляют и рождают чувство вины. И не важно, о чём спор и насколько прав мужчина. Женские слёзы как последний аргумент действуют безотказно. Даже у самых чёрствых и принципиальных представителей сильного пола при виде намокших женских ресниц и дрожащих губ доселе громогласный голос, вещающий истину, предательски хрипнет, и вместо осуждений хочется просить прощения.
Эдуард, оказалось, был не из таких. Он не хотел ничего видеть и слышать. С каждой секундой распаляясь всё больше, он рисовал себе дикие сцены оргии любовников. Сейчас перед ним стояла не обиженная ложными выводами жена, а падшая женщина, предавшая мужа, чьи слёзы лишь подтверждали её измену.
– Это же правда! Скажи мне! – орал Эдуард. – Вы занимались этим прямо тут, на этой постели? Скажи мне, как это было? Тебе было с ним хорошо? Он лучше меня? Да? Лучше?
– Я с ним не спала! – закричала в ответ Лилия, но сильный удар по лицу свалил её на пол.
Эдуард стоял над упавшей женой и тревожно прислушивался к своим чувствам. Как ни странно, он ничуть не жалел. Наоборот, ударив жену, он вдруг почувствовал удовлетворение. Оно было низкое, постыдное, смешанное с угрызением совести, но чувство отомщённого самолюбия всё же было ярче.
Наэлектризованную комнату вдруг прорезал тяжёлый бой напольных часов, стоящих в коридоре второго этажа. Часы пробили девять раз и умолкли. Гнетущая тишина, нарушаемая лишь всхлипами Лилии, вновь заполнила пространство.
– Убирайся, не хочу тебя видеть, – прошипела Лилия, не оборачиваясь.
Эдуарду стало жарко. Только сейчас он вспомнил, что по-прежнему стоит в грязном пальто. Эдуард попытался собраться с мыслями. Нужно было или просить прощения, или уходить. Просить прощения, по мнению Эдуарда, было не за что.
– Мы ещё не закончили. Когда я вернусь, мы договорим.
С этими словами мужчина, громко хлопнув дверью, вышел из комнаты.
Наверное, подумал Эдуард, именно так «слетают с катушек». Он не узнавал себя. Куда делись его хвалёная интеллигентность и выдержка? Привитая матерью и свято оберегаемая ею культура общения, за отсутствием стража, исчезла без следа, и Эдуард обнаружил в себе зверя, который готов был показать страшный оскал по любому поводу. Примерно то же самое он ощутил в себе ещё тогда, в поезде, когда прижал к стенке проводника. Причиной всех его метаморфоз, неожиданно пришёл к выводу Эдуард, была Лилия. До встречи с ней он не знал ни ревности, ни обиды, ни злобы. Жизнь текла тягучей серой струёй, но по крайней мере была понятна и предсказуема. Любовь, поначалу казавшаяся цветущей весной, теперь обнажила свою обратную сторону, превратившись в яростную грозу с ветром, без разбора сметающим всё на своём пути.
Оставаться одному было невыносимо. Хотелось забыться, а для этого существовал лишь один выход. Эдуард вышел из дома и направился к машине. Навскидку вспомнив пару винно-водочных магазинов, он с сожалением подумал, что к этому времени все магазины должны были уже закрыться. Мысль о свадьбе, куда он был приглашён в этот вечер и где можно было выпить, пришла сама собой. Эдуард повернул ключ зажигания и вырулил со двора. Метель усиливалась, так что свет фар выхватывал из снежной мглы всего пару метров дороги. Проехав метров пятьдесят, он чуть не наехал на выскочившего на дорогу Виталия – соседа по даче.
– Эдик? Ты, что ли? Слушай, я как раз к тебе шёл.
– Чего тебе?
– Слушай, одолжи топор, мой опять потерялся.
– Да берите что хотите и отстаньте все от меня, – резко ответил Эдуард и нажал на газ.
По дороге в ресторан в голову лезли разные бредовые мысли про жену и любовника. Он отмахивался от них, старался думать про другое, но упрямая фантазия со злорадством психопата в сочных красках рисовала одну постыдную сцену за другой. В ушах не переставая звучал сладострастный стон Лилии, иногда заглушая даже радио, включённое на полную громкость. В воспалённом, клокочущем злобой воображении любовник брал его жену так, как всегда сам желал Эдуард, но боялся сказать это Лилии. Он всегда хотел откинуть в сторону нежные ласки и долгие любовные прелюдии, о которых настойчиво пишут модные журналы в рубриках «Семейная жизнь», и, послав к чёрту все условности, просто взять самку, используя дарованный природой статус самца. Но, к своему сожалению, Эдуард был воспитанным человеком, и из всей палитры всевозможных вариантов пользовался лишь одобренной негласным кодексом приличного человека миссионерской позой.
Эдуард остановил машину у ресторана и, выйдя из автомобиля, громко хлопнул дверью. Свадьба была в самом разгаре, так что никто не обратил внимания на вошедшего человека в перепачканном костюме. За одним из столиков, где сидели самые уважаемые гости, Эдуард заметил Валова. Общаться с ним не было никакого желания, и Эдуард сел за первый попавшийся свободный стол. К новому гостю подошла официантка и поставила перед ним два графина. Эдуард налил себе из одного из графинов и залпом выпил…
***
Одетая в белоснежное одеяние природа просыпалась после ночного мрака. Золотые лучи оранжевого светила, словно бы боясь испортить девственную белизну, нежно трогали укутанные в снег ели и искрились на округлых боках сугробов. Холодное солнце на редкость тёплой зимы открывало двери новому дню...
Неприятный, больно бьющий по ушам стук вырвал Эдуарда из тревожного сна. В темноте появилась пульсирующая головная боль, которая усиливалась с каждым новым звуком. Эдуард с трудом разлепил глаза и в сером фокусе различил силуэт человека, который нещадно лупил в закрытое окно автомобиля. Эдуард огляделся и обнаружил себя в салоне своей машины. Протерев глаза, он с трудом открыл двери заваленного снегом автомобиля. Прямо перед ним, чуть наклонясь, стоял милиционер.
– Гусин Эдуард Владимирович?
– Что? А, да… Это я.
– Вадик, передай, что мы его нашли! – крикнул куда-то в сторону милиционер и, сняв фуражку, протёр вспотевший лоб.
– А что, собственно, происходит? – недоумённо спросил Эдуард и скорчился от подступившей тошноты.
– Вы задержаны по подозрению в убийстве, – обыденно сообщил милиционер, доставая наручники.
Эти слова звучали так нелепо, что поначалу Эдуард подумал, что ослышался, но звук защёлкивающихся на руках наручников развеял сомнения.
– Что? Что за чушь? Я никого не убивал.
– Да, конечно, – усмехнулся лейтенант. – Вся милиция на ушах стоит, а он не при делах.
Понимание того, что всё происходящее – не кошмарный сон, а самая настоящая реальность, пришло, когда перед его носом захлопнулась дверь милицейского уазика.
– Постойте, – завизжал Эдуард фальцетом. – Это какая-то ошибка. Слышите меня?
К месту задержания стали подъезжать служебные машины. Выходящие из них люди без лишней суеты присоединялись к обычным при таких случаях процедурам осмотра. Никто не обращал внимания на крики задержанного, который диким взглядом наблюдал за происходящим из решеченного окошка уазика. Рутинная работа криминалистов, впрочем, ознаменовалась фактом, никак не желающим втиснуться в общую картину преступления. Под дворником лобового стекла эдуардовского автомобиля была найдена трёхрублёвая купюра. Почесав затылки, криминалисты всё же аккуратно поместили вещественное доказательство в прозрачный пакетик и пришили к делу.
Глава восьмая
ЧИСТО БЫТОВОЕ УБИЙСТВО
– Ну а остальное вы знаете… – обречённо добавил Эдуард и исподлобья глянул на следователя.
– М-да… интересная история. Хоть кино снимай, – задумчиво сказал Филатов, вдавив дымящийся окурок в пепельницу. – Ну а каким образом вы объясните два трупа в сгоревшей конюшне? Согласно предварительной экспертизе, эти трупы принадлежали мужчине и женщине.
– Я не знаю. Клянусь вам! Я не мог этого сделать, слышите, не мог! Я любил её! – в отчаянии закричал Эдуард.
– Вот-вот. По статистике большая часть бытовых убийств, происходит по пьянке или на почве ревности. У вас, Эдуард Владимирович, налицо оба этих фактора, – спокойным голосом заметил майор.
Эдуард испуганными глазами пробежался по маленькой комнате, словно бы пытаясь найти место, где бы он мог спрятаться от тяжёлого буравящего взгляда следователя. Заметив окно, Эдуард инстинктивно дёрнулся к нему, но в ту же секунду тяжёлая рука лейтенанта Дубина, который всё это время сидел рядом с задержанным и монотонно точил карандаш, с силой гидравлического пресса прижала его обратно к стулу.
– Кстати, откуда у вас дома ружьё?
– Это... это отцовское. Он любил охоту.
– Вы тоже?
– Нет, ну что вы! Какой из меня охотник…
– Но ружьём-то пользовались?
– Иногда. Очень редко. Ворон отгонял. Отец научил меня стрелять, и у меня неплохо получалось. Но ходить куда-то в лес, бродить в грязи, в туче комаров, убивать зверей – это не по мне.
– Ну-ну... – скептически отозвался Филатов.
– А почему вы спрашиваете? – вдруг опомнившись, спросил задержанный.
– А потому что жертвы сперва были застрелены из вашего ружья, а потом уже сожжены.
– О, господи... – в ужасе выпалил Эдуард.
– Господь тут ни при чём. Хватит придуриваться, Гусин. Признавайтесь, вы застрелили их?
– Нет, ну конечно нет! Как я мог? Я любил её...
Поначалу казавшийся лёгкой прогулкой, допрос явно затянулся, и Филатов начал терять терпение.
– Эдуард Владимирович, сегодня же Новый год, – доверительно понизил голос майор. – Давайте не отнимать друг у друга время, а? Подписывайте признание и закроем это дело.
Эдуард повернулся к окну и замолчал.
«Смотри-ка, какой упрямый. А сразу и не скажешь. С этим придётся повозиться», – подумал Филатов, а вслух произнёс:
– Ладно… пойдём по длинному пути. Вот, подписывайте протокол допроса. Пишите, что ознакомлены, с моих слов написано верно, с обвинением не согласен.
Эдуард, вдруг будто бы очнувшись от анабиоза, резким росчерком подписал бумагу и вызывающе посмотрел на следователя.
– Уведите его, – крикнул Филатов и, чиркнув спичкой, прикурил очередную сигарету.
Тут же в кабинет зашёл человек в форме и, взяв под руку слабо сопротивляющегося Эдуарда, потащил в коридор.
– Подождите, подождите... – вдруг опомнился задержанный.
– Что ещё?
– Могу я попросить отселить от меня моего соседа по... эмм... – Эдуард никак не мог подобрать слова. – ...комнате? А то от него дурно пахнет, знаете ли.
Филатов расхохотался:
– Отселить соседа по комнате? – переспросил следователь. – Это что вам, гостиница «Москва»? Помяните моё слово, этот ваш дурно пахнущий сосед покажется ещё благоухающим членом политбюро.
Дверь закрылась, и в комнате остались только Филатов и лейтенант Дубин.
– Ну? Что думаете обо всём этом, лейтенант?
Лейтенант отложил идеально заострённый карандаш в сторону и откашлялся.
– А чего тут думать-то? – начал он. – Дело ясное. Есть два трупа, есть подозреваемый, есть мотив.
– Как-то просто у вас всё, лейтенант. Ну а что говорят криминалисты?
Дубин достал блокнотик, размашистым жестом открыл его и начал читать:
– «Было установлено, что возгорание помещения произошло в районе двух часов ночи. Обнаруженные трупы сильно обгорели, но, как установили судмедэксперты, это были мужчина и женщина. На женском трупе был найден чуть расплавившийся золотой кулон с изумрудом, по словам соседей, принадлежавший жене подозреваемого. Также был найден корпус наручных часов марки „Электроника 5“, которые, по установленным данным, принадлежали Павлу. Одежды, к сожалению, не сохранилось. Дальнейший осмотр дома не выявил никаких признаков насильственного проникновения в жилое помещение. Все замки на дверях целы».
– А лошади? – поинтересовался майор.
– А чёрт их знает, исчезли.
– Как исчезли? Это же не иголки.
– Товарищ майор, ночью была жуткая метель. Все следы снегом замело. Может, они убежали и их задрали волки? – предположил лейтенант.
– Какие, к чёрту, волки в Подмосковье?
– Да тут такие волчары водятся! Помню, пошли мы с мужиками на кабана, а вышли на стаю волков. Смотрят на нас зелёными глазами. Ну, думаю, всё, конец пришёл. И как припустили по тропинке… от страха про ружья даже забыли.
– Ладно-ладно! Не время сейчас охотничьи байки травить, – перебил подчинённого Филатов. – Что с машиной?
– Автомобиль марки «ГАЗ М-20В» 1957 года выпуска найден со спящим в нём подозреваемым у берега реки в десяти километрах от дома. При обыске машины на лобовом стекле под очистительной щёткой найдена денежная купюра номиналом три рубля ноль-ноль копеек. Факт появления этих денег на стекле сам подозреваемый объяснить не может.
– Что за три рубля ноль-ноль копеек? – удивился следователь.
– А хрен их знает! Может, ветром занесло?
– А чем убивали, уже известно?
– В сгоревшей конюшне рядом с трупами было обнаружено предполагаемое орудие убийства – ружьё марки ИЖ-26. Ружьё довольно редкое. Такими простые охотники не пользуются. К сожалению, на орудии убийства огонь уничтожил все отпечатки пальцев. Следы заметал, падлюга.
– Хм… похоже на то. Ваша версия, лейтенант?
Лейтенант принял важный вид. Не каждый день начальник спрашивал у подчинённого его мнение.
– Я считаю, что картина ясная. Гусин Эдуард Владимирович, 1958-го года рождения, приревновав жену к своему работнику, выпил для храбрости и убил обоих. Далее, чтоб скрыть следы, устроил поджог и скрылся с места преступления. Классическая история!
– Ну, Дубин, значит, так и пиши! Дальше без меня как-нибудь, – сказал Филатов, надевая китель. – Если будут звонить, скажи, что я уже час назад выехал.
– Будет сделано, товарищ майор, не волнуйтесь, – ответил лейтенант и взял под козырёк.
Холодные стены КПЗ не удерживали тепло даже в летние дни, что уж говорить о зиме, когда изо всех щелей веяло могильным холодом? Неотапливаемое помещение давило тяжёлым серым цветом бетона. Эдуард, сев подальше и прикрыв нос воротом пальто, боролся с невыносимой вонью, исходящей от неприятного соседа. Крошечное вентиляционное окошко под потолком, по-видимому, было декоративным, так как никакого движения затхлого воздуха в комнате не замечалось. Борясь с тошнотой и головной болью, Эдуард пытался вспомнить хотя бы что-то из вчерашней ночи, но память, доходя до банкетного зала, спотыкалась и следующей главой открывала кадр, когда в окно машины уже стучал сотрудник милиции.
В тяжких раздумьях прошёл час, потом на пороге камеры появился милиционер.
– Эй ты, – обратился он к соседу Эдуарда, худому, как выгоревшая спичка, старичку. – На выход.
На его место в камеру временного содержания вошёл высокий широкоплечий парень лет двадцати пяти с широкой, на всё лицо, улыбкой. На нём была телогрейка, растянутый свитер, заправленные в кирзу наподобие галифе шерстяные штаны и залихватски задранная на затылок кепка.
Новоявленный сосед, подбоченившись, оглядел комнатушку.
– Эх, ёлочки зелёные! Жил Василёк, да не думал, что опять в родные казематы попадёт, – сам себе сказал парень и обратился к Эдуарду: – День добрый. Присесть разрешите?
– Здравствуйте, да, конечно.
Новый сосед располагал к себе своей добродушной улыбкой и ясными, смешливыми глазами и нравился гораздо больше, чем прежний угрюмый вонючий старикан.
– Давайте знакомиться, что ль? – сказал парень и протянул руку. – Меня Василий зовут.
– Очень приятно, Эдуард.
– Давно тут?
– Первый день.
– Ясно. А кормят тут как?
– Я, право, не знаю. Я не хочу есть.
– Это плохо. Организму еда нужна, чтобы были силы бороться. А нам тут куковать ещё долго. Пока разберутся, пока запросят, пока ответят. То да сё... В общем, денёк-другой мы с вами просидим, как пить дать.
– Как «денёк-другой»? – встрепенулся Эдуард. – Я не могу сидеть тут два дня.
– И это если по административной статье, а если уголовщина, то неделями держат.
– Как неделями?
День в этом затхлом холодном помещении был для Эдуарда нескончаемым мучением. Он представил себе неделю, и она показалась ему вечностью в аду.
– Так, неделями. А там СИЗО, суд, зона... и прощай, воля-вольная, здравствуй, казённый дом. Вот так вот... Ёлочки зелёные, – весело закончил Василий совсем не весёлую для Эдуарда логическую цепочку.
Гусин резко встал и прошёлся по маленькой комнате. Ему было невыносимо сидеть в этом закрытом пространстве. Он задыхался от безысходности и долгого ожидания неизвестности. Впервые в жизни он оказался в ситуации, когда дверь была заперта снаружи, а распоряжаться ключами он не мог. Его пугала сама перспектива находиться в замкнутом пространстве неизвестно как долго, а мысль о годах в тюрьме вселяла первобытный ужас.
– Тебя за что взяли-то? – спросил Василий.
– За убийство, – машинально ответил погружённый в собственные мысли Эдуард.
– За мокруху? – переспросил Василий. – Э, брат, дело дрянь… Наши суды почти никогда не выносят оправдательного приговора по мокрому делу.
– По какому? – не понял Эдуард.
– Ну, по убийствам.
– Ну а если я не виноват?
– Вот именно что «если». В это «если» наша судебная система верит очень неохотно. Слышь... вот что расскажу. Был у нас дед один – божий одуванчик. Мухи не обидит. Кошек во дворе кормил, сапоги людям задаром чинил, а бывало, и печь поставит кому... Руки золотые были. Хороший дед такой, добрый. И была старуха у него. Сволочная, каких поискать надо. Изводила деда всю жизнь, хоть топись иди. А он терпел. Ему бы сковородой голову ей снести, а он всё жалел её. Говорил, мол, побранится и перестанет. Любил, значит. Так и жили. Но однажды пропала бабка. Искали всем селом... Всех родственников обзвонили, весь посёлок обшарили. Нашли в погребе с переломанной шеей. Повязали деда, и пошёл он мотать срок, так и сгинул на зоне.
– Так это он убил?
– А чёрт его знает. Доказательств не было. Свидетелей тоже. Может, и он порешил, а может, и сама со стремянки упала. Я это к чему говорю... Могли ведь как несчастный случай записать. На крайняк, условный дать, ему ж восемьдесят с лишним лет было... Ан нет! Дали срок! Так что ты имей в виду.
– Что иметь в виду? – дрожащим голосом спросил Эдуард.
Василий доверительно подманил рукой Эдуарда и шёпотом сказал:
– Что если в отказную пойдёшь, то шансов практически нет.
С этими словами Василий залез в сапог и достал оттуда припрятанную самокрутку и коробок спичек. Чиркнув спичкой, он смачно прикурил.
– Шмонают тут так себе. Хоть перо ныкай, – сменил разговор Василий и указал взглядом на дверь.
Сделав пару затяжек, паренёк потушил сигаретку, спрятал её снова в сапог, натянул на глаза кепку и, закинув руки за голову, моментально заснул.
Глава девятая
ОГОНЬ И ВОДА
31 декабря 1987-го года
Генерал Михаил Иванович Валов смотрел из окна своего кабинета на заснеженную улицу. Он только что закончил рассказывать своей подчинённой подробности дела, которым она должна была безотлагательно заняться. Валов был как всегда мрачен и задумчив. Женщина отложила испещрённый короткими пометками блокнот и взглянула на генерала. В свете проёма окна его неподвижная фигура с заложенными за спину руками и низко опущенной головой была похожа на скорбный монумент. На склоне лет Михаила Валова не покидала горькая мысль, что его всю жизнь предавали. Эта мысль появилась давно, ещё в детстве, но, словно маленький росток сорняка в суетливом круговороте жизни, долгое время оставалась незамеченной. Проходили годы, и груз новых обманутых надежд подпитывал росток сомнениями, от чего он рос и креп, так что к закату жизни превратился в вековой дуб, ветки которого поддерживали стойкую уверенность в том, что ничему и никому нельзя верить. Его предавали все и всегда, оставляя без жизненных ориентиров, стирая устои, веру и надежды. Будто корабль, попавший ночью в шторм, Валов искал свои берега, двигаясь навстречу изменчивому свету гаснущих один за другим маяков.
В первый раз Михаила Валова, тогда ещё просто орущего новорождённого мальчика, предала собственная мать, которая подбросила его к дверям детского дома. На оставленной записке быстрым почерком было всего лишь два слова: «Мишка Валов». Принятый и вскормленный коммунистической властью, Михаил превратился в одного из самых одарённых кадров из тех, кого принято называть «птенцами Дзержинского». Физически сильный, не по годам умный молодой человек отличался совершенным отсутствием чувства самосохранения и испепеляющей ненавистью к врагам, как среди чужих, так и среди своих. Слово партии для него было аксиомой, а Иосиф Виссарионович Сталин богом, для службы которому, как ему казалось, он был рождён.
Следующий вехой в жизни Михаила Валова, ознаменовавшейся предательством, стало двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года. В ту ночь его предала дружественная Германия. После россыпи поздравительных писем в газетах от высшего руководства нацистской Германии, оно вероломно, словно нож в спину, нанесло удар по родине тогда ещё девятнадцатилетнего Михаила. Обманутый и горящий ненавистью к предателю молодой человек стал мстить. Дойдя до Австрии, где в 1945-м году шли ожесточённые бои за Вену, Валов получил контузию и в чине старшего лейтенанта был демобилизован в тыл. В Москве в это время полным ходом шла «охота на ведьм». Враги народа, которые с завидной регулярностью обнаруживались как среди простых колхозников, так и в рядах высшего армейского управления и интеллигенции, пачками высылались в ГУЛАГ, где в холодных бараках и заканчивали свои жизненные пути. Кроме того, по всему Советскому Союзу расплодилось огромное количество криминальных банд, занимающихся грабежами и убийствами. В этих условиях верный идеям коммунистической партии молодой человек как нельзя лучше пришёлся ко двору. С первых же дней работы в НКВД Валов, со свойственной ему целеустремлённостью, принялся калёным железом выжигать предателей родины из советского общества, чем за короткое время успел заслужить уважение коллег и начальства. Для молодого Валова не существовало оттенков. Он видел только чёрное и белое. Белому он служил, чёрное он ненавидел и уничтожал. Каноны служения отечеству, заложенные ещё с детства, работали безотказно, и когда он оттаскивал рыдающую жену от арестованного мужа или отрывал плачущих детей от обвиняемой в предательстве матери, Валов не задумывался о моральной стороне процесса, а лишь слепо выполнял приказ.
Живя в мире подозрений и анонимок, Валов разучился любить людей. Он был необщителен и суров. Среди коллег его за глаза называли сфинксом и побаивались. Был лишь один человек, с которым он поддерживал дружбу. Слывший весельчаком и балагуром Николай Ермаков был из тех, кого называют «своим в доску». С открытой нараспашку душой и навечно застывшей улыбкой на открытом всему миру лице Ермаков был абсолютной противоположностью угрюмому Валову. Несмотря на внешний антагонизм, между ними было много общего. Они вместе росли в одном и том же детском доме и в сорок первом вместе записались добровольцами на войну. Под градом пуль и пламенем взрывов их дружба продолжала крепнуть, со временем превратившись в настоящий братский союз. После войны Ермаков, так же как и Валов, прошёл ускоренные курсы НКВД и поступил на службу в один из его отделов. Михаил верил Николаю как себе. Между ними не могло быть секретов, ведь друзья знали друг друга как свои пять пальцев. Так, по крайней мере, думалось Валову. Гром грянул весной 1950-го, когда в ходе профилактических работ по выявлению иностранных агентов среди служащих силовых структур в списках всплыла фамилия Ермакова. Михаил Валов держал в руках ордер на арест под номером 2289 и не верил собственным глазам. Буквы в словах «...ареста и обыска Ермакова Николая Владимировича» никак не хотели читаться, расползаясь в стороны, словно тараканы. Мысль, что его друг шпион, а значит предатель, который предал не только Родину, но и друга, словно раскалённый добела штырь, буравила сердце. Перед Валовым впервые в жизни стала дилемма – верить или не верить начальству. Эта мысль показалась Валову диким и несусветным абсурдом, и он отшатнулся от неё словно от чумы. Не верить начальству значило не верить Сталину. Что в свою очередь означало поставить под сомнение идеи коммунистической партии и стать предателем Родины как... как Николай Ермаков! С этого дня Валов дал себе зарок никогда не заводить друзей и следовал ему всю оставшуюся жизнь. Отголоски Большой чистки довоенных лет свинцовым дождём утопили бывшего друга в ненасытном океане истории, оставив память о нём лишь в пыльных картотеках.
Самая яркая звезда, на свет которой держал путь Валов, вдруг погасла 25 февраля 1956-го года. Капитан 4-го управления Комитета государственной безопасности Михаил Валов сидел в просторном зале Большого Кремлёвского дворца и не верил собственным ушам. Докладчик говорил о Сталине, но его речи отнюдь не были преисполнены гордостью, любовью и уважением, как того требовал образ вождя. Наоборот, вызывающий тон докладчика, его слова, за которые обычно расстреливали, вкупе с гробовой тишиной, стоявшей в зале, говорили о том, что рушатся небеса. Мир, к которому привык Валов, с каждым словом докладчика серел и скукоживался. Путеводная звезда Валова гасла, оставляя впереди лишь мрак и пустоту. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв разоблачал Сталина как преступника, который в угоду собственным амбициям депортировал целые народы, расстреливал соратников и репрессировал однопартийцев. Слова Хрущёва кинжалами вонзались в сердце, раздирая душу и переворачивая всё с ног на голову.
«Те отрицательные черты Сталина, которые при Ленине проступали только в зародышевом виде, развились в последние годы в тяжкие злоупотребления властью со стороны Сталина, что причинило неисчислимый ущерб нашей партии», – вещал докладчик, и от этих слов у Валова пересыхало в горле, так что было больно глотнуть.
«Сталин ввёл понятие „враг народа“. Этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или людей, с которыми ты ведёшь полемику: он давал возможность всякого, кто в чём-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрессиям, с нарушением всяких норм революционной законности.... Вместо доказательств своей политической правоты и мобилизации масс, он нередко шёл по линии репрессий и физического уничтожения не только действительных врагов, но и людей, которые не совершали преступлений против партии и Советской власти. В этом никакой мудрости нет, кроме проявления грубой силы, что так беспокоило В.И. Ленина», – слышал Валов, и перед ним представало улыбающееся лицо его друга Коли Ермакова.
«И всё это он делал руками своих последователей, – думал Валов. – Руками тех, кто безоглядно верил ему. Моими руками». Докладчик своей речью беззастенчиво обнажал страхи, которые Валов когда-то очень глубоко запрятал в себе. Он уже и не помнил, в каком тёмном уголке души хранились его сомнения, без которых было так просто выполнять работу. Теперь эти чувства выползали наружу, давя голосом докладчика на потерянного Валова. Предательство Сталина, чьим словом и приказом всю жизнь руководствовался Михаил, ударило по самому больному для него – по вере в идею. Михаил Валов пребывал в смятении и растерянности, словно собака, выброшенная на улицу хозяевами, которым она много лет служила верой и правдой. Душевный надлом кривой линией отделил Михаила Валова от веры в коммунистическую идею. Теперь существовали Он и все остальные. Из зала капитан 4-го управления КГБ вышел совершенно другим человеком, не похожим на того, который двумя часами ранее заходил внутрь. Через месяц он подал рапорт о переводе его в министерство внутренних дел СССР.
После такого потрясения предательство жены, с которой он прожил пять лет, осталось почти незамеченным. Женщина, измученная постоянным отсутствием мужа, как и полагается, нашла внимание на стороне, и вскоре подала на развод, уехав вместе с молодым инженером достраивать Байкало-Амурскую магистраль. Недолгая семейная жизнь не оставила после себя ни детей, ни тоски, ни памяти. Единственное, чем мучился Михаил Валов, это то, что совершенно разучился ухаживать за собой. Острая потребность в домохозяйке была решена просто и оперативно. Выбрав из множества вариантов самую невзрачную девушку, Валов на третьем свидании сделал ей предложение. Через три дня молодые расписались, и вскоре новоиспечённая ячейка общества принесла Советскому Союзу двоих новых граждан – мальчика и девочку. И в этих двух крохотных созданиях Михаил Валов нашёл своё призвание. Теперь всё крутилось вокруг детей, которым требовались комфорт, обеспеченность и безопасность.
Друзей у Валова никогда больше не было. Были лишь те, кого он называл друзьями, не испытывая к ним никаких тёплых чувств. Валов с напускным удовольствием выезжал с ними на традиционные охоты и рыбалки, парился в баньке и совместно отдыхал в санаториях. Но стоило кому-нибудь из них оступиться, как Валов, налетая коршуном, отбирал то, что волею случая осталось без хозяина. Так пустые лозунги, вроде светлого будущего и коммунистической победы, сменились вполне осязаемой жаждой материального обеспеченности. Михаил Валов, пользуясь неординарным умом и служебным положением, стал без зазрения совести воровать. Изощрённые схемы вывода государственных средств были безупречны и работали как швейцарские часы. За всё время ни одна плановая проверка так и не сумела разоблачить хищения, которые, к слову, иногда доходили до отметки «в особо крупных размерах». Был лишь один ревизор, который сумел ухватиться за подозрительную ниточку, но так и не успел довести дело до конца. Через неделю его тело нашли в Москва-реке. Следствие установило, что погибший, неудачно поскользнувшись, ударился головой и утонул – обычное дело. Так с течением времени когда-то пламенная душа борца за идею ссохлась до размеров душонки обычного вора, гонимого жаждой наживы. Мысли о вечном превратились в скопище схем по отводу денег, нюх на дела, на которых можно было нагреть руки, обострился до предела. Внешне Валов был иконой врага преступности, доблестным борцом за справедливость, денно и нощно ведущим борьбу с всосавшейся в тело советского общества гидрой криминала. Но внутренне он сам давно уже сросся с этой гидрой и даже держал небольшую банду крепких ребят, которые должны были решать вопросы на местах. Химера, вобравшая в себя уважение добропорядочных людей к органам правопорядка, с одной стороны, и почёт преступного мира, с другой, жили и процветали в душе человека, который сейчас стоял у окна своего кабинета и устало смотрел на улицы зимней Москвы...
Тем временем где-то там внизу вершилась круговерть праздничной суеты. Граждане, измученные в толчеях очередей, несли разнообразную снедь для праздничных столов. Хозяйки, выстояв очередь за селёдкой, самозабвенно бросались на штурм следующей, уже за зелёным горошком. Особо деловые занимали несколько очередей сразу и постоянно бегали из одной в другую, обозначая своё присутствие. За порогом, переминаясь с ноги на ногу, уже стоял восемьдесят восьмой год двадцатого столетия.
За широким дубовым столом валовского кабинета сидела красивая молодая женщина в дорогом костюме. Поджав ярко накрашенные губы, женщина внимательно слушала генерала, стараясь не пропустить ни одного важного слова. Воспользовавшись возникшим молчанием, женщина быстрым движением глянула в зеркальце и, оставшись недовольна собой, сунула зеркальце обратно в сумочку. Поправив блузку с глубоким, открывающим вид на полную грудь декольте, женщина приосанилась, убрала за ухо прядь белокурого локона и вновь выжидательно глянула на Валова.
– …Вот такая вот история, Леночка, – наконец-то вышел из задумчивости генерал. – Дело достаточно щепетильное и требующее максимальной осторожности и профессионализма.
– Не беспокойтесь, Михаил Иванович. Всё будет сделано по высшему разряду. Я вас не подведу.
Валов прошёл к своему месту и, отодвинув необъятных размеров кожаное кресло, сел.
– Знаю-знаю, Леночка. Поэтому тебя и вызвал. Прости уж, что заставил встать прямо из-за праздничного стола.
Лена обиженно отвела взгляд от Валова:
– Да с кем мне там праздновать? – грустно заметила Лена. – Опять с родителями? Снова выслушивать всякие истории про их болячки?
Валов вздохнул и, будто отмахиваясь от надоевшей темы, произнёс:
– Ну, не начинай. Мы же договаривались, что по праздникам я остаюсь с женой.
– Да помню я, помню… Но так порой бывает тяжко на сердце. А по праздникам хоть белугой вой. И ты давно уже не звонил и не приезжал.
– Работа, деточка, работа.
– Опять работа? Ты всегда так говоришь, когда ищешь отговорку, – вспыхнула женщина. – А я так хочу теплоты. Надоело сидеть одной дома и выглядывать в окно при любом звуке подъезжающей машины. Все мои подруги при мужьях, и только я как дура всё в девках хожу.
– У этой… дуры… только меховых шуб пять штук. Я уже не говорю про бирюльки и всякую такую дребедень, – чеканя каждое слово, возразил Валов.
– Вот ты опять тыкаешь мне своими подарками, – по-детски растягивая каждое слово, вдруг брызнула слезами девушка.
– Ну-ну… перестань, – Валов встал из-за стола и приобнял за плечи плачущую Лену. – Ты же знаешь, я не выношу вида твоих слёз.
– А я буду, буду…
Лена совершенно по-детски шмыгнула носом и размазала рукой потёкший макияж.
– Ладно. Послушай меня, деточка. Закончим это дело и поедем на две недели в Кисловодск. Только ты и я.
Лена подняла глаза и посмотрела на Валова. Её перепачканное тушью лицо осветилось улыбкой:
– Правда?
– Правда. Но только если дело закончится в нашу пользу.
– Любимый! Я сделаю всё как надо, – радостно прощебетала женщина и встала из-за стола.
Елена Кравцова, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, была беззаветно влюблена в генерала Валова. Встретив его однажды где-то в коридорах Мосгорсуда, к тому времени дважды разведённая Кравцова поняла, что пропала. Именно таким Лена представляла мужчину своей мечты. Высокий, сильный, строгий. Словно могучий дуб, в тени которого легко дышится в знойную пору и под которым можно спрятаться в ненастную погоду. Все мужчины, которые словно мотыльки слетались на свет Лениной красоты, постоянно кружа вокруг и создавая ореол навязчивого внимания, вдруг стали лишь жалкой тенью под уверенной поступью начищенных до блеска ботинок. Через месяц, вновь случайно столкнувшись с ним, Лена, гонимая вперёд безотчётным желанием быть рядом с мужчиной своей мечты, набралась наглости и попросилась на работу в ведомство Валова. Её зачарованный взгляд при этом не остался незамеченным для генерала. Кроме того, пленительная красота и округлость форм тоже сделали своё дело. Так что вскоре Елена Кравцова уже работала помощником Валова. Елена любила Валова слепой, по-собачьи преданной любовью. Её нерастраченные чувства нашли объект обожания и теперь клокотали в женской душе, словно пламенная лава в кратере вулкана. Став любовницей Валова, Лена также стала его ближайшей соратницей и выполняла самые ответственные и секретные задания. За годы жизни рядом с Валовым она научилась распознавать его желания без слов и намёков, как на работе, так и в постели. И если на работе Валов был для неё господином, приказы которого беспрекословно исполнялись, то в интимных утехах роли кардинально менялись, и хозяином положения становилась Лена. Этой небольшой сексуальной прихотью Валова Лена научилась пользоваться, и в такие моменты господства выбивала (иногда буквально) для себя деньги и подарки.
– Хорошо, – удовлетворённо гаркнул Валов и подошёл к своим бумагам, стопками разложенным на рабочем столе. – Ну, тогда вот тебе номер телефона его матери. Её зовут Любовь Александровна. Позвони ей после праздников. Я ей о тебе уже говорил. А мне пора в управление.
И, вздохнув, добавил:
– Моя печень не выдержит этих «подведений итогов года».
Бой курантов все встречали по-разному: Эдуард сидел в тёмной камере предварительного задержания и прислушивался к звукам салюта, прижимаясь к холодной каменной стене. Любовь Александровна, сжав в руках фотографию сына, молилась в своей комнате перед иконой. Валов поднимал бокал в компании друзей и сослуживцев. Лена скучала за праздничным столом в окружении престарелых родителей. Дом Эдуарда печально возвышался над чёрными стенами обуглившейся конюшни.
И только Ивану Савельевичу Пуговкину не было никакого дела до Нового года, потому что, сидя в холодном подвале морга, он заполнял ненавистные ему бумаги патологоанатомического заключения.
Глава десятая
ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ ПУГОВКИН
Иван Савельевич Пуговкин всю жизнь мечтал стать врачом-акушером, а стал патологоанатомом. В какой-то момент жизни внутренний голос Ивана Пуговкина дал сбой и повёл его по нежеланной профессиональной дорожке. Когда это было, уже Иван Савельевич и сам не помнил, но тот факт, что вместо дарования жизни ему теперь приходилось копаться в смерти, приносил пожилому судмедэксперту невообразимые душевные страдания. Иван Савельевич был натурой сентиментальной и даже ранимой. Он любил цветы, Есенина и плакал на индийских мелодрамах. В то же время его профессия, которой он был вынужден заниматься каждый день, была наполнена ужасами зловония мёртвых тел и холодом трупного окоченения. Вся его жизнь была соткана из противоречий. В душе – словно лёгкая поющая органза, внешне Иван Савельевич был крайне скуп на эмоции. Он не любил длинных задушевных разговоров с живыми, но с мёртвыми иногда позволял себе процитировать что-нибудь из Есенина. При этом, в силу своих профессиональной деятельности, он искренне считал, что внутренняя красота человека сильно преувеличена. С годами он перестал чувствовать запах формалина, но при этом умел по аромату точно различать цветы. Он ненавидел своих «подопечных», но уважительно обращался к ним по имени и отчеству. Ивану Савельевичу – романтику – было невыносимо больно смотреть на труп человека, который, быть может, ещё вчера радовался жизни, а сегодня лежит на холодном секционном столе, но Иван Савельевич – судмедэксперт – уже с интересом прикидывал, каким методом воспользоваться при вскрытии: по Абрикосову, или, быть может, применить метод Шора.
Двухкомнатная квартирка Ивана Савельевича была будто бы слеплена с самого владельца. Здесь, на многочисленных полках, горшочки с нежными цветами чередовались с макетами внутренних органов человека. Стены квартиры были украшены прекрасной коллекцией бабочек, собственноручно пойманных Иваном Савельевичем. Книжный шкаф был полон романами про любовь и трудами по судебной медицине. Настоящим хранителем квартиры считался стоящий в прихожей скелет. Череп был приделан к туловищу с помощью пружины, так что при малейшем касании голова начинала приветственно кивать. Ивану Савельевичу этот скелет служил вешалкой, на которую он вешал верхнюю одежду и шляпу. При этом кивающий скелет в шляпе и куртке очень забавлял Ивана Савельевича.
Чего не скажешь о женщинах, с которыми пытался связать свою судьбу Пуговкин. Единственное, что запоминали женщины, уходящие от Ивана Пуговкина, так это зияющие глазницы на весело прыгающем черепе. Может быть, по вине именно этого скелета, а может, из-за противоречивости характера личная жизнь Ивана Савельевича не сложилась. Сентиментальный Пуговкин требовал страсти, пылких признаний, долгих разговоров про любовь, в то время как прагматичный Пуговкин любил тишину, расчёт и размеренность. Поэтому в выборе спутницы жизни Ивану Савельевичу приходилось прыгать из крайности в крайность. Так в его жизни появлялись безмолвные женщины, которые начинали выводить его из себя своей чёрствостью, или приходили женщины мечтательные, которые бесили своей болтовнёй.
К закату жизни Ивану Савельевичу Пуговкину пришлось прийти к консенсусу с самим собой. К этому решению его подтолкнул банальный быт. Так в закрытый мир пожилого судмедэксперта мягкой поступью вошла Роза Константиновна – продавщица местного гастронома. Роза Константиновна была ненавязчивой, хозяйственной и ласковой. Она ненавязчиво внушила Пуговкину, что скелет теперь ему не нужен, по-хозяйски убрала макеты и коллекции бабочек и ласково объявила, что теперь они будут жить вместе. После этого Иван Савельевич наконец-то обрёл душевное спокойствие. Осталась лишь одна деталь, которая по-прежнему отравляла ему жизнь – работа. Несмотря на глубоко пенсионный возраст, Ивана Савельевича не спешили отпускать на заслуженный отдых. Его профессионализм и ответственность для начальства были важнее трудового законодательства СССР, предписывающего отправлять на пенсию служащих после шестидесяти лет. Кроме того, у Пуговкина была ещё одна странность: он не пил. Всегда трезвый, ответственный на работе, знающий своё дело патологоанатом был, наверное, один на всю Москву, и просто так его не отпускали. Но в конце декабря 1987 года всё изменилось. Иван Савельевич, подбадриваемый женой, решился на заявление об уходе на пенсию. Написанное красивым каллиграфическим почерком, оно легло на стол начальству и ознаменовало начало новой жизни Ивана Пуговкина.
Утро 31-го декабря 1987 года для Иван Савельевича началось с вкусной глазуньи и крепкого кофе. Плотно позавтракав, Пуговкин засел за свою лепидоптерологию. После выхода на пенсию Иван Савельевич твёрдо решил наконец-то посвятить всю оставшуюся жизнь науке о бабочках. Раскрытая энциклопедия уводила Пуговкина в бескрайний мир красочных крыльев и нежных хоботков. Иван Савельевич уже представлял себя на летнем лугу, озарённом ярким июльским солнцем. Прекрасные создания легко, словно пушинки, порхали вокруг Ивана Савельевича. В этом нежном хороводе чешуекрылых были бабочки всех цветов и размеров. И свой прекрасный танец любви они дарили только Ивану Пуговкину. В этот момент совершенно ненужным и раздражающим звуком в мечтания Ивана Савельевича клином врезался звон старого телефона. Пуговкин нехотя отогнал от себя Махаона обыкновенного, наивно севшего на воображаемый сачок, и, шаркая тапочками, поплёлся в прихожую.
– Иван Савельевич? – заговорила трубка голосом бывшего начальника. – Слава богу, что вы дома.
Настроение Ивана Савельевича тут же испортилось.
– Да, это я, – сухо ответил Пуговкин.
– Иван Савельевич, нам нужна ваша помощь. Понимаете? У нас тут два трупа..
– Нет! – грубо перебил пенсионер. – Вы же знаете, я уже не работаю.
– Иван Савельевич, миленький, ну выручайте, – промямлила трубка. – Без вас совсем никак. Дело сложное... Два сгоревших трупа... Начальство словно с цепи сорвалось. Требует немедленного расследования.
Иван Пуговкин почувствовал, как где-то внутри просыпается похороненный уже было Пуговкин-патологоанатом.
Но Пуговкин-пенсионер не хотел так просто сдаваться:
– Так у вас там есть медик... Как его там... забыл.
– Серёга, что ли? Так он валяется второй день пьяный в дрова! Мы так и не смогли его добудиться... Ну, Иван Савельевич... Ну в последний раз...
Пуговкин представил, как он после бабочек увидит два обезображенных, скрюченных трупа и его передёрнуло.
– Алло, алло! Иван Савельевич, – тем временем жалостным голосом повторяла трубка, – выручайте...
Иван Пуговкин глубоко вздохнул и процедил в трубку:
– Чёрт с вами! В последний раз...
– Да, да... в последний раз. Спасибо! – радостно затараторила трубка, но Иван Савельевич этого уже не слышал, потому что положил трубку.
Морг в этот день показался особенно отталкивающим. Потёртый рабочий стол с бумагами был отвратителен. Белый свет ламп больно резал глаза. Иван Савельевич в первый раз за столько лет почувствовал запах формалина, и его чуть не стошнило. Пуговкин думал о том, что залитый солнцем луг был куда приятней, чем холодный кафель морга. Ему физически трудно было находиться здесь, и он уже сильно жалел, что дал слабину и согласился помочь. Решив побыстрее закончить с делом, Пуговкин подошёл к патологоанатомическому столу.
На оцинкованном столе лежало нечто, что когда-то было человеком. Обуглившаяся потресканная фигура источала ужасный смрад. У трупа отсутствовала лицевая часть головы. Рядом, на втором столе, лежал ещё один труп с теми же внешними увечьями. Кроме того, первый труп явно принадлежал женщине, а второй мужчине. Для точной экспертизы нужно было время. Огонь уничтожил почти все индивидуальные признаки. Требовалось много времени, а желания возиться с ними не было никакого. Иван Васильевич заглянул в сопроводительные документы.
В этот момент зазвонил рабочий телефон:
– Ваня! Ты что там делаешь?! – услышал Пуговкин строгий голос Розы Константиновны. – Ты же обещал мне!
Иван Савельевич почувствовал себя нашкодившим мальчишкой, которого поймали на «месте преступления».
– Дорогая, я тут просто проходил мимо... – неумело стал врать Пуговкин.
– Ваня, я тебя знаю как облупленного. Я, понимаешь, тут себе места не нахожу. Обзвонила всех знакомых, а тебя нигде нет. Ты забыл? Ты больше не работаешь! Опять давление поднимется. Сейчас же домой!
– Да, да... уже иду, – буркнул Пуговкин и повесил трубку.
Настроение что-либо делать пропало совсем. Иван Савельевич подошёл к столу и взял стандартную форму акта вскрытия. Ещё раз оглядев трупы, Иван Савельевич быстро стал писать:
«Труп женщины длиной 140 сантиметров доставлен в морг без одежды. Отсутствуют: затылочная часть головы, мягкие ткани конечностей до уровня средней трети бёдер, мягкие ткани верхних конечностей до уровня средней трети левого предплечья, средней трети правого плеча, мягкие ткани передней брюшной стенки...»
Буквы плясали перед глазами. Иван Савельевич чувствовал, как в висках больно бьёт пульс. Его тошнило.
«...По краям и в дне дефекторов мягкие ткани обуглены, сухие, чёрно-бурые, в области верхних и нижних конечностей из них выступают обугленные, хрупкие, чёрные, с наложением серой золы фрагменты костей...»
Иван Савельевич попытался представить Птицекрылку королевы Александры – самую красивую, большую и редкую бабочку на свете. Она обитает только лишь во влажных лесах Папуа – Новой Гвинеи. И встречается так редко, что человек может прожить хоть всю жизнь в этих лесах и ни разу её не увидеть. «Интересно, туда летают самолёты?» – подумал Иван Савельевич.
«...Кожные покровы остались только на передней стороне туловища и в паховой области. На всей остальной поверхности туловища обнажены подсохшие, разволокнённые, обугленные на глубину от 0,1 до 0,5 см плотные мышцы. Трупные пятна не определимы. Трупное окоченение не определимо. Точное определение возраста не представляется возможным. Других повреждений не обнаружено».
Закончив с первым трупом, Иван Пуговкин быстро набросал такой же акт и для второго трупа. Увечья и повреждения были такими же, как и на трупе женщины. Поэтому второй акт был составлен гораздо быстрее. Закончив с заключением, Иван Пуговкин быстро оделся и выбежал из этого ужасного места. Впервые за всю профессиональную карьеру Иван Савельевичу было стыдно за свою работу.
ЧАСТЬ II
Глава первая
АРЕСТАНТ №...
Тяжёлые ворота СИЗО открывались медленно, натужно скрипя и дребезжа каждым пазом. Свет мощных прожекторов осветил грязные бараки и заиграл на схваченной морозом колючей проволоке. Послышался лай собак и окрики надзирателей. В ночном морозном воздухе висело тяжёлое ощущение тревоги. Автозак заехал на территорию СИЗО, сделал круг и остановился. Под ругань людей в форме из машины вывели новоприбывших подследственных.
Он спал и видел страшный сон. Это определённо должно было быть сном, потому что не сном этот кошмар быть никак не мог. Так думал Эдуард, подгоняемый тычками надзирателей. Мелкой трусцой он бежал ко входу в административное здание. С момента, как он узнал о своём переводе в СИЗО, вокруг всё стало казаться нереальным, сюрреалистическим. Ощущение неправдоподобности происходящего не покидало его на протяжении всего времени от КПЗ до этого момента.
Ну в самом деле, разве может быть правдой то, что его, Эдуарда Владимировича Гусина, уважаемого члена общества, заведующего магазином, активиста партии, гражданина Советского Союза, гордо несущего знамя патриотизма через всю свою жизнь, обвиняют в двойном убийстве и переводят в следственный изолятор, как какого-нибудь урку, где он будет ждать своей участи вместе со всякими отбросами общества? Ну конечно же, нет, и быть такого не может никогда! Ему, наверное, снится страшный сон, в котором он бежит по очищенным от снега дорожкам и ему тычут в спину автоматом. Вот-вот он проснётся, и исчезнет этот полосатый матрас, мат надзирателей. Уйдёт в небытие вид открывающейся железной двери и ряд двухъярусных шконок по обе стороны камеры. Навсегда исчезнет удушливая вонь, ударившая в нос, лязг запираемой за ним двери и ощущение глубочайшего одиночества вперемешку со страхом. Останется лишь свет, как этот, падающий сквозь решётчатое окно под потолком, белой линией разделяющий камеру на равные половины.
Так он стоял как вкопанный посередине камеры, окружённый грязными ступнями арестантов. Была глубокая ночь, и никто из спящих не проснулся. В коридоре за железными дверями с маленьким окошком послышались чьи-то шаги. Они были тяжёлыми, словно кто-то нарочно стучал тяжёлой кувалдой по дощатому полу. Шаги прошли мимо, и снова наступила тишина, нарушаемая лишь далёким лаем собак.
Осознание реальности происходящего приходило медленно. Холодом в ногах, гулом в ушах, усиливавшейся с каждой минутой одышкой реальный мир по капле проскальзывал в сознание Эдуарда. Каждая из этих капель была экстрактом животного страха, отчаяния и безысходности. Спасительная пелена нереальности происходящего таяла, как утренний туман, разрушая последнюю защиту перед безумием. Тело превратилось в свинцовую грушу и не слушалось приказов. Руки продолжали сжимать потёртый матрас. Оцепенение было таким сильным, что Эдуард почувствовал, как ноют скованные судорогой мышцы.
Эдуард стал задыхаться. Холодный липкий пот выступил по всему телу, и резкая боль прострелила висок. Он почувствовал, что сходит с ума. В это время из дальнего угла донёсся шорох, и Эдуард увидел, как кто-то вылез из-под нижней шконки. Фигура, не обращая внимание на стоящего посередине камеры Эдуарда, прошла к нужнику, и оттуда послышались громкие звуки испускания газов и журчание мочи.
– Выпустите меня! – вдруг истошно закричал Эдуард. – Выпустите! Я не хочу здесь быть… О господи! Выпустите меня!
Тело само собой, словно разжимаемая пружина, бросилось к двери. Эдуард застучал руками и ногами по холодному металлу. Всё в камере пришло в движение. Перепуганные арестанты повскакивали со своих мест и, не понимая происходящего, озирались.
– Эй, успокойся! – послышался голос из дальнего угла. – Ты мешаешь отдыхать людям.
Голос был ровный и спокойный, но стучаться в дверь сразу расхотелось. Эдуард медленно повернулся лицом к камере, в которой его разглядывали двенадцать заспанных пар глаз.
– Ну вот и ладненько, – вновь раздался голос. – Ты пока посиди там до утра, а завтра с тобой поговорят.
Кому именно из присутствующих принадлежал голос, Эдуард так и не понял, но сразу же послушно уселся прямо у входа.
Глава вторая
АДВОКАТ НАДЕЖДЫ
Пасмурное январское утро скупо делилось солнечным светом. Мутные облака сплошной пеленой застилали холодное небо и плакали мелкими снежинками.
У чёрного остова сгоревшей конюшни, кутаясь в платки, стояли сильно сдавшая Любовь Александровна и адвокат Лена. Пустынный, заваленный снегом двор, ограждённый заградительной лентой, навевал вселенскую тоску. Пугающая тишина одинокого дома лишь иногда прерывалась хлопаньем оставленной открытой форточки.
Лена невесело оглядывала двор. Служебная машина, фыркая работающим мотором, давно уже поджидала её у выхода. Модные югославские сапожки предательски уступали холоду и никак не оправдывали выложенную за них кучу денег.
Разговор близился к концу, Лена задавала последние вопросы:
– Любовь Александровна, а когда вы уехали отсюда?
– Прямо со свадьбы, – дрожащим голосом ответила Любовь Александровна. – Я не могла выдержать этого. Господи, разве такой участи я хотела своему сыну?
– И не приезжали с тех пор?
– Нет, не приезжала. Иногда звонила. Сын всё-таки. Интересовалась здоровьем. О Лиле мы не говорили. Леночка, доченька... Ты уж постарайся. Он у меня единственный сын. Всё, что у меня есть в этой жизни.
– Любовь Александровна, я сделаю всё, что от меня зависит, – как можно более участливым голосом заверила Лена. – Но, повторяю, дело очень серьёзное. Все улики указывают на него. У него был мотив, есть свидетели, которые слышали, как Эдуард говорил, что убьёт их. Из дома ничего не пропало, это вы подтвердили на предварительном следствии. То есть версия с ограблением отвергается. Налицо убийство из ревности. У нас нет алиби. Нет ни единого человека, видевшего вашего сына в период с часа ночи и до шести утра...
– Да, да... знаю, – вытирая слёзы, перебила убитая горем женщина. – А лошади? Куда они делись? Может, их украл грабитель, и он же убил Лилю с конюхом?
– Может быть... Но опять же, нет свидетелей, видевших, как кто-то выводит лошадей. К тому же двери в доме не взломаны. – Лена машинально взглянула на входную дверь и глубоко вздохнула. Оставаться здесь больше не имело смысла, и она заторопилась в машину.
Быстро простившись с заплаканной матерью, Лена уже через час предъявляла пропуск тюремному надзирателю. Встреча с подзащитным должна была быть короткой. Долго задерживаться в мрачных стенах СИЗО адвокату совсем не хотелось. Лена вспомнила о яблочном уксусе, который забыла выпить с утра. В последнее время ей казалось, что она слишком располнела. Она перепробовала все известные ей диеты, но каждая из них заканчивалась ночным срывом у холодильника. Ругая себя последними словами, Лена снова садилась на диету, и всё повторялось по кругу. И вот, совсем недавно, одна из подруг посоветовала ей чудодейственное средство, чтоб быстро и без проблем добиться талии «как у Гурченко». Яблочный уксус, дважды в день, творит чудеса – заговорщически шептала в телефонную трубку подруга. То, что это же снадобье приводило ещё к гастриту, было не так уж и важно. Если это помогало сбросить хотя бы десять килограмм, никакая угроза гастрита не способна была удержать советских женщин. «Интересно, теперь придётся пить сразу две порции?» – подумала Лена, перед тем как зайти в комнату.
Прикрученные к полу стол и стулья, звонок тревоги, решётчатое оконце и старый плафон на серой стене… Лена ненавидела эту набившую уже оскомину обстановку. Она разложила бумаги, поправила окрашенные «под Монро» волосы и стала ждать «клиента».
Долго ждать ей не пришлось. Через минуту тяжёлая металлическая дверь открылась, и в комнату завели Эдуарда.
– Наручники снять? – глухим голосом спросил надзиратель.
– Да, если вам нетрудно, – ответила Лена и мило улыбнулась.
Эдуард сел на стул. Его дикий взгляд поблуждал по комнате, не задерживаясь ни на чём. Небритое, болезненное лицо дёргалось в мелком нервном тике. Казалось, что он каждую секунду ощущает еле сдерживаемую физическую боль.
– Эдуард Владимирович, здравствуйте, – начала Лена. – Как вы себя чувствуете?
Казалось, Эдуард только теперь заметил, что он в комнате не один. Он посмотрел на Лену красными от бессонницы глазами.
– А? Да... Здравствуйте, – ответил Эдуард охрипшим голосом.
– Меня зовут Лена. Меня назначили защищать вас. Вы, конечно, можете отказаться от моих услуг... – И, понизив голос, добавила: – Но Михаил Иванович хотел, чтобы именно я защищала вас. Он очень хочет вам помочь.
Эдуард ни проронил ни единого слова. Он перевёл взгляд на освещающий комнату плафон. Там, за матовым стеклом, запеклись несколько мух и одна бабочка. Повисла тишина.
Лена выждав несколько секунд, продолжила:
– В таком случае, если вы не берёте мне отвод, то, пожалуй, начнём. – Она открыла папку. – Эдуард Владимирович, в материалах дела указано, что вы после ресторана проехали через весь город и разговаривали с человеком. Вы помните это?
Задержанный продолжал молчать, смотря на плафон. Апатичность Эдуарда начинала выводить Лену из себя, и она сделала над собой усилие, чтобы не треснуть его по голове.
– Эдуард Владимирович, вы слышите меня? Ваша мама очень переживает за вас. Пожалуйста, помогите мне защитить вас.
Слова о маме вернули Эдуарда в реальность.
– Я не помню, – прошептал Эдуард, – я уже в сотый раз это повторяю. Не помню! Последнее, что я помню, как выпивал водку.
– Хорошо, тогда скажите мне, почему вы поехали к реке? Или лучше так: что бы вас заставило поехать к реке?
Эдуард перевёл взгляд с плафона на Лену.
– Это я знаю. С этим местом у меня связаны детские воспоминания. Я туда приходил с родителями. Мы купались, рыбачили. С тех пор прошло много лет, но я всегда прихожу туда, когда мне тяжко на душе. Наверное, в тот вечер ноги сами меня привели туда. Точнее колёса... – Эдуард невесело усмехнулся и взглянул на Лену. – Вы ведь тоже думаете, что это я убил их? Зачем нужен этот маскарад? Мне сказали, что все улики против меня! И меня уже ничего не спасёт. Но я не убивал её! Я не виноват! Не виноват!
Эдуард сорвался на крик. Его глаза заблестели злостью. Лена нажала на кнопку тревоги.
***
На широком рабочем столе Михаила Валова аккуратными стопками возвышались колонны папок. Важные папки лежали на левой стороне стола. Со временем, теряя актуальность, они перемещались на правую сторону, откуда их забирал в неизвестном направлении секретарь.
Поминутно трезвонили разноцветные телефоны. Некоторые из звонков Михаил Валов попросту игнорировал, а на некоторые тут же отвечал. Причём тон голоса зависел от цвета звонившего телефона. Меняясь от «учтиво-зелёного» до «властно-чёрного», голос указывал на ранг звонящего.
Устроившись на самом краешке стула, перед Валовым сидела Любовь Александровна. Из-за душевных переживаний от былой красоты не осталось и следа. Болезненную худобу не скрывало даже платье, купленное всего полгода назад и теперь висевшее на ней бесформенным мешком.
На окно села взъерошенная ворона. Она важно прошлась по выступу и нагло постучалась клювом в стекло.
– Ох-ох-ох… горе-то какое, Любовь Александровна, – участливым голосом успокаивал женщину генерал. – Представляю, что вы сейчас чувствуете. Хорошо, что ваш муж не дожил до этого дня. Мы ж с ним огонь и воду... А вы не беспокойтесь… Леночка адвокат толковый, серьёзный. Уверен, она справится. Ну и я в меру сил буду помогать. И письмо ваше обязательно передам товарищу Зайкову.
С этими словами Валов взял принесённый женщиной конверт и положил перед собой.
– Спасибо, Михаил Иванович. Мне самой-то до первого секретаря горкома не добраться, а вам проще будет. Володя с ним столько проработал вместе. И у нас Лев Николаевич бывал, борщом потчевала. Небось, не забыл нас. Разберётся, поможет.
– Обязательно поможет. Не может не помочь! Не такой он человек, чтоб друзей старых забывать.
– Не знаю, как вас и благодарить, Михаил Иванович.
– Ну что вы, Любовь Александровна! Какие благодарности? Не чужие ведь люди.
– Ну, тогда я спокойна, – вставая со стула, сказала женщина. – Поеду на могилку к Володе, прощения попрошу за нашего непутёвого сына.
– Ступайте с богом.
Валов проводил Любовь Александровну и вернулся за рабочий стол. Закурив, он взял принесённый женщиной конверт и положил его к папкам на правую стопку стола.
За окном послышалось карканье.
Глава третья
СУДНЫЙ ДЕНЬ
– Граждане, я требую тишины! Или мне придётся вывести всех из зала суда, – грозно постучал молотком председательствующий.
Зал притих.
Председатель суда вытянул губы трубочкой, и со стороны показалось, что он усиленно пытается достать верхней губой до носа. Это действие он проделывал очень часто, так что скоро все переставали замечать эту привычку.
В Хорошевском районном суде города Москвы рассматривалось дело по обвинению Гусина Эдуарда Владимировича, тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года рождения, в преступлении, предусмотренном статьёй сто второй Уголовного Кодекса РСФСР.
За трибуной свидетелей давала показания официантка, обслуживавшая Эдуарда в ресторане.
– Итак, вы видели подсудимого в день убийства. Скажите, не показалось ли вам, что подсудимый ведёт себя как-то странно? – спросил государственный обвинитель.
– Я протестую, ваша честь! – воскликнула Лена. – Обвинение подталкивает свидетеля к необъективным показаниям.
Председатель кивнул:
– Протест принят.
– Хорошо. Я перефразирую вопрос, – согласился обвинитель. – Вы не помните, что говорил в тот вечер обвиняемый?
Белокурая девица с копной сожжённых химией волос на голове взглянула на Эдуарда и сглотнула. Ей было страшно, но одновременно очень интересно, от происходящего. Особенно волновала мысль, что она является частью этой истории, которую теперь будет рассказывать всем своим знакомым и даже незнакомым людям.
– Ну... в тот вечер в ресторане был банкет, – начала свой рассказ свидетель. – Было много гостей. Подсудимый появился в ресторане около десяти вечера…
30 декабря 1987 года. Ресторан. Свадьба. 22:00
В переполненном банкетном зале, освещённом светом шикарных люстр, играла музыка. Гитарист и певица исполняли песню «Две звезды». Танцевальная площадка была переполнена пляшущими гостями, по виду которых можно было догадаться, что Указ Верховного Президиума СССР «Об усилении борьбы с пьянством», вышедший всего полтора года назад, в общем-то был для них не указ. Многочисленные официанты сновали между столиками, ловко балансируя переполненными подносами. Иногда они подходили к столикам и ставили перед гостем графин с минералкой, после чего следовало заговорщическое подмигивание.
В стране второй год свирепствовал «сухой закон». Введённый в 1985 году, он тяжёлой поступью прошёлся по винно-водочному производству, плодя за собой сварливые очереди за водкой, одеколонный угар и бурный расцвет самогонных аппаратов.
В зал вошел Эдуард. Сев за первое попавшее место, он сразу закурил.
Тут же рядом с ним выросла фигура официантки с подносом в руках. Она поставила перед Эдуардом два графина и кашлянула, чтоб привлечь его внимание.
– Это минералка, – кивнула она в сторону одного из графинов.
Прочитав в глазах Эдуарда немой вопрос, официантка указала на другой графин и добавила:
– А это не минералка.
Эдуард тут же налил себе полный стакан «не минералки» и залпом выпил.
Зал суда
– Подсудимый с кем-либо общался? – спросил обвинитель. – Может быть, вы слышали что-нибудь?
– Он говорил сам с собой. В зале играла музыка, так что я слышала отдельные слова. Мне показалось, что он был чем-то расстроен. Он сильно ругался, но я не хочу здесь повторять эти слова.
– Попытайтесь. Это очень важно. Ну, может, не всё, а самое мягкое его выражение.
– Ну… как бы это… он несколько раз называл слово… – Свидетель попыталась подобрать подходящее слово. – Так называют самку собаки… только во множественном числе.
– И всё? Это всё, что вы слышали? – спросил государственный обвинитель.
– Ещё он два раза произнёс: «Я убью их!»
По залу прошёлся зловещий шёпот. Длинный стол народных заседателей оживился.
– У меня всё, товарищ председательствующий, – с этими словами прокурор сел на своё место.
Председатель перевёл взгляд на Эдуарда. Тому, казалось, было всё равно, что происходит вокруг. Подперев рукой голову, подсудимый внимательно рассматривал прибитый к стене лозунг «Советский суд – суд народа».
– Слово предоставляется защите, – после паузы произнёс председатель.
Лена встала:
– Спасибо, товарищ председательствующий, – поблагодарила она председателя и перевела взгляд на официанту. – Скажите, а обвиняемый называл какие-либо имена?
– Не помню. По-моему, нет. По крайней мере, я не слышала.
– То есть слова «я убью их», условно говоря, могли относиться и к тараканам, которые досаждали ему на кухне? – больше обращаясь к народным заседателям, чем к свидетелю, спросила Лена. – Спасибо, свидетель. Это был риторический вопрос. Можете не отвечать.
Лена, поправив кофточку, села на место и сделала запись в блокноте.
Председатель вызвал следующего свидетеля.
В зал суда, хромая на одну ногу, вошёл пожилой мужчина. Смотря под ноги, он прошёл за трибуну свидетелей и орлиным взглядом из-под чёрных бровей оглядел присутствующих. Густая шевелюра и гордо топорщащиеся усы придавали ему моложавый, бравый вид. Лишь частая сетка морщин на гладко выбритом лице выдавала его годы.
Председатель:
– Свидетель, представьтесь.
– Манафов Эльбрус Алиагаевич, – с сильным кавказским акцентом произнёс мужчина.
– Скажите, Эльбрус Алиагаевич, где вы работаете?
– На заправке.
– Узнаёте ли вы подсудимого?
– Да, узнаю. У меня хорошая память.
– При каких обстоятельствах вы познакомились?
– Не понял.
– Как вы познакомились?
– Э, уважаемый, я с ним не знакомый. Я этого человека всего один раз в жизни видел. Он не друг, не родственник. За одним столом не сидели, в дорогу вместе не выходили. Как я могу быть с ним знаком?
– Хорошо, расскажите суду, где вы видели этого человека?
Свидетель, прищурившись, взглянул куда-то вдаль и шумно вдохнул носом.
– Это было в самом конце прошлого года. Тридцать первого декабря в один час десять минут ночи...
– Откуда вы знаете точное время? – перебил председатель свидетеля.
– В час ночи мне надо закрывать автозаправку, и я как раз собирался это сделать. В ту ночь была сильная метель...
31 декабря 1987 года. Автозаправочная станция
Небеса будто прорвало. Снег всё шёл и шёл, не переставая. Злой ветер разбрасывался липкими хлопьями во все стороны, создавая невообразимый хаос. Сплошная белая пелена скрывала за собой очертания домов и проспектов. Даже свет уличных фонарей казался слабым мерцанием далёких звёзд.
«В такую погоду хороший хозяин собаку не выбросит на улицу, – думал Эльбрус, сидя в своей кабинке. – Да и у плохого хозяина нет-нет но совесть проснётся».
Рабочая смена закончилась, и пожилой заправщик собирался уже закрывать автозаправочную станцию. Он допивал чёрный чай и с тоской смотрел на неработающий телефонный аппарат. Битых два часа Эльбрус пытался починить его, но все усилия разбивались о глухо молчащую трубку. Созерцание упрямого аппарата прервал сильный стук в окошко.
Эльбрус открыл окошко, и тут же маленькое обогретое пространство кабинки обдало холодом.
– Закрыто, уважаемый! – крикнул заправщик куда-то в темноту снежной бури.
В окошко просунулось лицо Эдуарда:
– Бензин закончился.
Эльбрус почувствовал сильный запах перегара.
– Я же сказал: закрыто, – с этими словами Эльбрус ткнул пальцем в висящую табличку.
– Залейте мне двадцать литров бензина, – будто не слыша заправщика, повторил Эдуард. – Вот моя машина... рядом. Я не доехал метров тридцать.
– Не могу, дорогой. Касса закрыта. Директор закрыл и ушёл. Понимаешь меня или нет?
Несколько секунд ничего не происходило, и Эльбрус подумал даже, что мужчина ушёл. Потом вдруг послышался сильный грохот. Эдуард с разбега пнул ногой в дверь кабинки. Удар был такой силы, что задрожали окна. Пожилой заправщик выглянул на улицу и увидел, как пьяный мужчина, успевший уже где-то вываляться в грязи, пошатываясь, отходит для разбега, чтоб нанести новый удар.
– Эй, эй… стой! Что ты делаешь?! С ума сошёл, что ли?
– Если не продашь бензин, я тут всё разнесу к чёртовой матери! – крикнул тот.
– Я сейчас милицию вызову, – пригрозил заправщик и кинулся к телефону.
Трубка предательски молчала.
Из кабинки послышался громкий мат на азербайджанском языке.
В этот момент последовал второй удар. Причём он был такой силы, что у Эльбруса не осталось сомнений – этот человек сумасшедший, и он действительно разнесёт всю эту заправочную станцию, а потом доберётся и до него самого. Умирать на чужбине, вдалеке от родных краёв, в планы прошедшего всю войну, от Баку до Берлина, Эльбруса Алиагаевича не входило. Он открыл дверь и выбежал на улицу.
– Ладно, ладно… стой! Есть бензин, есть.
Этот окрик застал пьяного Эдуарда в прыжке. Вытянув ногу, он летел к будке. Остановить инерцию уже не получилось, и новый удар сотряс будку.
– Остановись. Вот бензин... бери!
С этими словами заправщик указал на двадцатилитровую канистру бензина, которую по капле, не доливая по чуть-чуть клиентам, заботливо собирал целую неделю.
Эдуард взял канистру и расплатился. Заправщик с удивлением посмотрел на деньги, а потом на спину удаляющегося Эдуарда.
– Странный человек, мог бы нормально попросить продать. Обязательно нужно было ломать тут всё?
Эльбрус, что-то ворча себе под усы, хотел было уже закрыться в своей чудом уцелевшей будке, как снова услышал голос Эдуарда:
– Заправщик, эй!
– Чего тебе ещё нужно? – сердито, но на всякий случай закрывшись на ключ, спросил Эльбрус.
– Послушай, а если бы твоя жена тебе изменила, что бы ты сделал? – спросил Эдуард.
Зал суда
– У нас не принято так спрашивать, гражданин председатель, – обратился Эльбрус к суду. – За такие слова вражда на всю оставшуюся жизнь.
– И что вы ответили? – спросил обвинитель.
– Мне обязательно нужно отвечать на этот мерзкий вопрос?
– Да, Эльбрус Алиагаевич. Это очень важно.
– Я ответил первое, что пришло в голову. Я бы убил их, сказал я! Но, клянусь хлебом, я не думал, что он и вправду убьёт их.
– Я протестую, ваша честь, – воскликнула Лена.
– Протест принят. Свидетель, отвечайте только на вопросы. Своё мнение оставляйте при себе, – приказал председатель и вновь потянулся губой к носу.
– Извините, гражданин судья. Честное слово, такое больше не повторится.
– Что дальше происходило? – продолжил обвинитель.
– Дальше ничего не происходило. Он пошёл к своей машине, крича что-то вроде «правильно, так поступают настоящие мужчины».
– «Что-то вроде», или вы уверены?
– Уверен. Именно так он и кричал.
Председатель заглянул в протокол и обратился к Лене:
– Есть ли вопросы к свидетелю со стороны защиты?
– Вопросов нет, – охрипшим голосом ответила адвокат.
– Свидетель, вы можете быть свободны.
Эльбрус вышел из-за трибуны и пошёл к выходу.
– Суд объявляет перерыв. Слушание дела продолжится завтра в пятнадцать ноль-ноль, – басом объявил председатель и снова сложил губы трубочкой. Со стороны показалось, что в этот раз ему всё-таки удалось достать губой до бугристого носа.
Глава четвёртая
В ГОРОДЕ СОЧИ ТЁМНЫЕ НОЧИ
Под потолком кабинета Филатова густым облаком висел сигаретный дым. Заклеенные на зиму окна плохо спасали неотапливаемое помещение от зимнего холода, но напрочь лишали возможности его проветривать. Перед следователем и лейтенантом Дубиным на столе лежала раскрытая папка с делом. Офицеры разглядывали чью-то чёрно-белую фотографию. Многочисленные материалы дела, испещрённые рукописным и печатным текстом, навевали вселенскую тоску.
Филатов встал и прошёлся по комнате.
– Вот же чёрт, подкинули дельце! Делать мне нечего больше, как разгребать чужие висяки? – закуривая очередную сигарету, недовольно заворчал майор. – Ох, как же мне хреново! Трубы горят, башка как кастрюля. Сейчас бы кружечку пива, но боюсь, в запой уйду.
– Товарищ майор, может, рассола? – предложил лейтенант.
– Да пил уже. Не помогает, зараза. Ладно, что у нас там по делу?
Лейтенант вытащил из пухлой папки несколько листов:
– Досье на имя Будылина Константина Петровича, по кличке Костя-жокей. 1965-го года рождения. Две судимости за конокрадство. Последний раз освободился четыре года назад. Подозревается в убийстве и опять же конокрадстве.
– Надо же, – рассматривая фото, задумчиво произнёс Филатов, – а с виду и не скажешь. Глаза честные-честные, как у члена партии. Одного не пойму, при чём тут мы? Они там, в Сочи, с ума все посходили, что ли? Отметили, блин, Новый год. Ладно, дай сюда дело, сам дочитаю. А ты, лейтенант, пошли кого-нибудь за «жигулёвским».
Лейтенант, отдав дело майору, вышел из кабинета. Он уже скрылся за углом, как дверь следователя с грохотом распахнулась и из кабинета выбежал Филатов.
– Лейтенант! Лейтенант! Да твою ж мать... Дубин!
Из-за угла показалась голова лейтенанта.
– Слушаю, товарищ майор.
– Срочно готовь машину!
Больничная палата была слишком большая для единственной койки, на которой лежал Эдуард. Яркий свет лился словно бы с потолка и обволакивал всё вокруг нестерпимой белизной, которая больно резала глаза даже через закрытые веки. В палате стояла совершеннейшая тишина. Не было слышно ни медперсонала, ни звука аппаратов, к которым был подключён Эдуард. Лишённый возможности издавать какие-либо звуки, кроме почти неслышного мычания, с привязанными к койке руками и ногами, он казался себе раздавленным растением. Наконец Эдуард заставил себя открыть глаза. Оглядев пустую палату, он увидел сидевшую рядом мать. Любовь Александровна с жалостью в заплаканных глазах смотрела на сына.
– Эдик, родненький мой, скажи, что это не ты убил их, – тихим голосом обратилась к нему Любовь Александровна. – А не то моего сына посадят.
Эдуард хотел было что-то ответить, но из раскрытого рта послышалось лишь шипение.
– Эдик! Эдуард! – продолжала взывать к сыну Любовь Александровна.
Но с каждым разом её нежный голос грубел, и вот уже мужским басом она сердито рявкнула:
– Гусин Эдуард Владимирович!
Эдуард вскрикнул и проснулся. Железная дверь с маленьким окошком была полуоткрыта, и из неё высовывалась голова надзирателя.
– Оглох, что ли? Быстро на выход. Тебя ожидают.
Эдуард спустил ноги с верхнего яруса шконки и спрыгнул на пол. С той памятной ночи, когда он в исступлении бился в железную дверь, прошёл уже месяц, за который новоявленный арестант худо-бедно свыкся с новой, показавшейся на первый взгляд дикой обстановкой. Он попал в «хату», где чалился разношёрстный народ из числа казнокрадов, валютчиков, мелких грабителей и вымогателей. Был даже один завхоз школы, обвиняемый в производстве и продаже самогона. Смотрящим по «хате» был высокий худой зэк с длинными руками и непропорционально большой головой. В силу этой особенности за ним закрепилась прозвище Башка. Его помощником был Серый – бывший боксёр, попавший в руки правосудия за разбой.
Время – вечный целитель. Оно, словно незримый хирург, зашивает, затягивает мелкие раны, а большие зарубцовывает, покрывая новым слоем памяти. Извечный защитник разбитых сердец, сломанных судеб, растерзанных душ, время даёт избавление в виде привычки. Медленно, исподтишка оно выветривает тягостные мысли, заменяя их согласием. Согласием жить в отсутствие безвременно ушедшего любимого человека, согласием с горькой участью неразделённой любви, с новой, даже самой горькой реальностью. И вот уже существование не кажется обломленным прутиком. В неё первыми, робкими шагами приходят новые радости, простые житейские хлопоты, которые новой страницей открывают продолжение книги под названием Жизнь.
Эдуард, оправившись от первого шока и чуть привыкнув к новой обстановке, немного успокоился. Мысли уже не прыгали солнечными зайчиками по мутному сознанию. Голова прояснилась и воспринимала окружающую реальность трезво, словно бы он проснулся после тяжёлого похмелья, отодвинул штору в тёмной комнате и увидел за окном ясный летний день. Самое страшное, чего он боялся больше всего, уже случилось. Он не то что соприкоснулся с миром, о котором имел очень смутное представление, миром, который его пугал своей жестокостью, неизвестностью, миром, про который до этого только доводилось читать или видеть в фильмах. Он сам стал частью этого мира. Одним из его кирпичиков. Если бы пару месяцев назад ему кто-нибудь сказал, что он окажется за решёткой, Эдуард воспринял бы это как шутку. Но вот он здесь, на нарах, и вокруг него стены, решётки, колючая проволока. И несмотря на это он по-прежнему жив и не сошёл с ума. Как там говорят? От сумы и тюрьмы не зарекаются? Как верно подмечено! Как мало надо, чтобы превратиться из вчерашнего уважаемого человека в сегодняшнего не уважаемого. Всего лишь момент, миг разделяет эту кажущуюся непреодолимой пропасть.
А что если это судьба? Что если человеческая жизнь уже кем-то давным-давно расписана до мелочей? И что бы человек ни сделал, как бы ни повёл себя в той или иной ситуации, ему не удастся выйти за границы сценария, который предрешает его жизнь. Ведь не думал и не гадал Эдуард, что в один несчастный для себя день окажется запертым в камере следственного изолятора. И вроде бы он в своей жизни старался делать всё, чтобы, не дай бог, не приблизиться к той запретной черте, которая разделяет добродетель и зло. Но, кажется, у Главного сценариста на этот счёт были свои планы.
«А если невозможно что-то изменить, то и страдать по этому поводу не имеет никакого смысла, – думал Эдуард. – Нужно всего лишь существовать в той реальности, в том сюжете, который уготован для тебя. Пытаться повлиять на него невозможно, изменить его – тоже». Но тогда возникли несколько вопросов, на которые Эдуард не мог найти простых ответов. Например, человек встречается с трудной жизненной проблемой, и у него два пути: или подняться на крышу и спрыгнуть, тем самым закончив своё существование, или стиснуть зубы и бороться, тем самим продолжив существование. Вопрос в том, кто решает: прыгнуть или бороться – сам человек или Сценарист? Мысль о том, что кто-то ему, как подопытному животному, постоянно подбрасывает новые реалии, итог которых неясен, очень не нравилась Эдуарду, но она была поистине спасительной. Получалось, что это всего лишь испытание, продолжение сюжета, финал которого должен определить своими действиями сам Эдуард.
«Можно лишь выбирать из нескольких предложенных вариантов тот, который выгоден на тот момент».
Просто продолжать бороться и жить во что бы то ни стало. Прыгнуть с крыши – это слишком простой исход истории. Он и так из своих неполных тридцати лет больше половины не жил. И если бы можно было решиться броситься с крыши, то нужно было это делать ещё тогда. Удивительно, что может сделать с человеком глубокое эмоциональное потрясение. Из крикунов оно делает тихонь, из горделивых – тряпок, из мямли – мужчину. Это как извержение вулкана, когда лава выплёскивает на поверхность то, что было спрятано веками под поверхностью – а это могут оказаться и алмазы, а могут и просто шлаки.
Наутро Башка подозвал к себе Эдуарда.
– Кто такой?
– Эдуард Владимирович Гусин.
Бессонная ночь притупила все чувства, сделала всё неважным, мелким, призрачным... Страх и тревога уступили место смертельной усталости.
– Ты почему ночью людям спать не давал?
– Понимаете, – борясь со слипающимися глазами, произнёс Эдуард, – такая ситуация... Не в себе был. Прошу прощения, что причинил неудобства. Я сейчас не очень понимаю, что происходит.
– За что закрыли?
– Я не знаю, я невиновен. Произошла чудовищная ошибка...
– Ну ясень пень, что невиновен. Тут все невиновны, – произнёс Башка со щербатой улыбкой.
– Да, но я действительно не виноват.
– Статья какая?
– Говорят, что сто вторая.
– За мокруху, что ли? – присвистнул Башка и обратился к сидящему рядом коренастому зеку, испещрённому наколками по всему телу. – Слыхал, Серый?
– Блатная статья! – произнёс Серый, и Эдуард тут же узнал тот самый голос, который его одёрнул ночью.
– По воле кем был?
– Что, простите?
– Кем работал, спрашиваю?
– Завмагом был.
– Красный значит?
– Что значит красный?
– Государственный работник.
– Ну да... а это плохо?
– Ну это с какой стороны посмотреть... – вздохнул Башка и, откинувшись на подушку, закрыл глаза. – По всему видно, что первая ходка... Ну, это по первости у всех так. У всех, кто с малолетки не пришёл. Слушай, что скажу тебе. Вижу, что мужик ты чистый, наивный... Таким тут трудно выжить. Тут как в лесу: слабых и убогих жрут сильные и наглые. Так что если хочешь выжить, то придётся тебе выучить несколько правил. Мой долг тебе о них рассказать, а там уже от тебя зависит, под какой мастью будешь ходить. Во-первых, видишь того чмыря, сидящего у параши?
Эдуард оглянулся и увидел скорченного мужичка, сидящего на корточках у отхожего места.
– Вижу.
– К нему не прикасаться, с рук ничего не брать, за одним столом не сидеть, разговоров душевных не водить. Захочешь дать что-нибудь – брось на пол, сам подберёт.
– А почему? Что с ним? Он заразный? – удивился Эдуард.
– Ещё какой заразный, – усмехнулся Башка. – Петух он. И если от заразы можно вылечиться, то от петушиной масти не вылечишься уже никогда. Со временем ты поймёшь все местные притоптухи, ну а пока слушай, что говорят. Видишь шубу на стене?
– Какую шубу? – переспросил Эдуард и стал мотать головой в поисках висящей на стене шубы.
– Да не настоящую шубу. Стены хаты покрыты грубым покрытием, словно иголками. Шуба называется. В шубе клопы живут. Их давить строго запрещается. Раздавишь – кровавое пятно останется. За следы крови в хате у «хозяина» проблемы начнутся. А если у хозяина проблемы, то нам потом они аукаются троекратно.
– Ясно.
– По-людски живи, не крысятничай и отвечай за слова. Прежде чем сказать что-нибудь, думай. Сказал – делай. Не сделаешь, фуфлыжником нарекут, а фуфлыжнику нет места среди честных зеков. Запомни: если в словах и делах твоих есть справедливость, то и правда на твоей стороне. А там где правда, там и сила.
– И всё?
– Всё.
– Так мало?
– Это не мало. Эти понятия решат твою судьбу в этих стенах. Сидеть тебе с мужиками за одним столом или у параши гнить – вот что решают эти простые советы.
– А может, меня выпустят?
– Выпустят? – усмехнулся Башка. – Не выпустят... Ну, а даже если выпустят. Этих правил нужно придерживаться везде. Но что-то мне говорит, что чалиться тебе тут от звонка до звонка.
– Но я же не виноват!
– Если ты здесь, то значит есть за что! Спать будешь на верхнем ярусе, есть за общим столом. Знай своё место, и тюрьма примет тебя, будешь косячить – и эти стены тебя раздавят.
Этот разговор навсегда врезался в память Эдуарда, и он, словно примерный ученик, неукоснительно следовал всем советам.
Неспешный ход тюремной жизни со своим нехитрым бытом, разговорами, надеждами и проблемами потихонечку затягивал и баюкал. Баланда уже не казалось такой отвратительной, сокамерники такими страшными, а душевная боль такой острой. И всё бы ничего, но тяжёлые сны не давали покоя. Почти каждую ночь Эдуард просыпался от собственного крика из-за приснившегося кошмара. Каждый раз подсознание, словно изощрённый садист, предлагало новый сюжет, который неизменно заканчивался выстрелом из ружья, брызгами крови и видом мёртвых тел. Лишь под утро или днём Эдуард мог спать без кошмаров. В эти часы он видел сны без крови.
Утро давало надежду. Маленькую, слабую, но всё же надежду на то, что вот сегодня в камеру зайдёт человек в форме, который с виноватым видом объявит, что произошла чудовищная ошибка и что его, Эдуарда Владимировича Гусина, отпускают домой. Он рисовал себе эту воображаемую картину в мельчайших подробностях, в красках, вплоть до выражения лиц сокамерников. Эта фантазия приносила ему успокоение. Так пусть маленькая, придуманная перспектива освобождения дарила ему силы жить. Но дверь не открывалась, никто не входил, а если и появлялся кто-то из надзирателей, то только чтобы провести проверку.
Сегодня утренняя проверка уже была, завтрак раздали, а вывоз в суд не предполагался. Эдуард, перебрав все варианты в голове, остановился на свидании. С тех пор как разрешили свидания, он ждал, что мама сразу придёт с ним повидаться, но проходили дни, а мамы всё не было. Он в первый раз за всю жизнь с ужасом подумал, что ведь кроме мамы у него на этом свете никого и не осталось. Была жена, та, в смерти которой его сейчас обвиняют. Нет родственников, нет близких. На воле это одиночество практически не ощущалось. Каждодневное общение на работе, приятели, заходящие на чай, сотрудники, поздравляющие с праздниками и днём рождения, соседи и просто знакомые создавали иллюзию единства и участия. Это ложное чувство нужности и важности тут же прошло, стоило Эдуарду оказаться за решёткой. Теперь получалось, что единственный близкий человек, к которому он мог обратиться, это была мама.
Надзиратель повёл Эдуарда по длинному коридору, в конце которого тускло горела одинокая лампочка.
В комнате для свиданий, к сожалению Эдуарда, его ожидала не мама. За привинченным к полу столом сидели следователь Филатов и лейтенант Дубин. Позади них в углу стоял молодой широкоплечий парень в милицейской форме, который показался Эдуарду смутно знакомым.
Эдуард попытался вспомнить, где он видел этого парня, но ход его мыслей прервал Филатов:
– О! А вот и наш голубчик. Ну, как вы тут? Устроились? – и, не дожидаясь ответа, сунул под нос Эдуарда чёрно-белую фотографию. – Гусин, вы узнаёте этого человека?
Чуть опешив от такого начала, Эдуард взглянул на фотографию. С карточки тяжёлым осуждающим взглядом на него смотрел Павел.
– Да, узнаю. Это Павел, в убийстве которого меня обвиняют.
Следователь удовлетворённо откинулся на спинку стула. На его лице заиграла довольная улыбка.
– Ну, всё, Дубин. Пиши, что дело прекращено в связи со смертью разыскиваемого.
– Какое дело? – переспросил ничего не понимающий Эдуард.
– Этот Павел совсем не Павел. Его настоящее имя Будылин Константин Петрович. Типчик ещё тот... На нём висит несколько громких преступлений вплоть до убийства. Находится во всесоюзном розыске… то есть находился… пока вы его не порешили. По правде говоря, вам за это стоило бы объявить благодарность от, так сказать, трудового народа.
Филатов рассмеялся собственной шутке.
– Я ничего не понимаю. Скажите толком, что происходит?
– Это элементарно, Ватсон, – вошёл в раж Филатов. – Этот рецидивист, Будылин, устраивался работать на конезаводы, в цирки, зоопарки… в общем везде, где есть лошади. Имея вполне приличный, даже интеллигентный, вид, он быстро входил в доверие руководству, а потом угонял лошадей. Лошадей он продавал цыганам, с которыми имел тесные связи. Пару раз Будылина вязали, и он отбывал сроки. После последней ходки вышел и взялся за старое. Но только в этот раз Будылин хватил лишка. Своровав лошадей, он ещё убил человека и спалил целый цирк.
– О, господи! – только и сумел проронить Эдуард.
Перед его глазами, быстро сменяя друг друга, пронеслись воспоминания: зарево над ночным Сочи, пробегающие по пляжу лошади с единственным всадником, пачка денег из кармана Павла в вагоне-ресторане…
– Но это уже не имеет никакого значения, – прервал мысли Эдуарда Филатов.
– Как это не имеет? – вскрикнул Эдуард. – Может, это он украл лошадей и спалил конюшню?
– Ага, а потом пристрелил вашу жену и себя и улёгся в горящем сарае, – с иронией произнёс Филатов. – Нет, Эдуард Владимирович, я скажу, как было. Вы, вернувшись из ресторана, застали их в конюшне, взбесились и убили их. А лошадей выпустили, инсценировав ограбление.
– Но это абсурд! Я любил свою жену. Я их не убивал!
– Это мы уже слышали. А ещё слышали, что не помните, убивали их или нет.
– Но, возможно, новые обстоятельства как-то повлияют на ход дела?
– Очень в этом сомневаюсь. Как бы там ни было, вас обвиняют в двойном убийстве. И не важно, убили вы бабульку – божьего одуванчика или вора-рецидивиста.
Филатов встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен.
– Иванов, – обратился он к парню в милицейской форме, не проронившему за всё время ни одного слова.
– Я, – отозвался тот.
– Отсюда дуешь в прокуратуру, отвезёшь бумагу об опознании.
– Так точно.
Эдуард обернулся на голос. Этих двух слов было достаточно, чтоб Эдуард узнал в милиционере Василия, которого подселили к нему в КПЗ. Но в тот раз на нём была телогрейка с растянутым свитером, и вёл он себя совершенно иначе. Эдуард здесь уже слышал разговоры про подсадных уток, но никак не ожидал, что с ним самим провернут такую штуку. Да и всё было уже не важно, потому что обвинение против него было готово, шёл суд, а сам он продолжал всё отрицать.
Глава пятая
ВАЖНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
Зал суда
Лена попросила слова.
– Гражданин председательствующий, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами дела защита просит перенести слушания и отправить дело на новое расследование.
Пожилой судья пошуршал бумагами и, о чём-то пошептавшись с заседателями, громко, чтобы все слышали, объявил:
– Гражданин адвокат, суд уже ознакомлен с новыми фактами и не считает нужным переносить слушания. Ваше обращение по этим фактам отклонено.
– Как отклонено? Это же очень важно! – выкрикнул со своего места Эдуард.
– Прошу сохранять тишину в зале суда! – строго перебил председатель. – Вам ещё не давали слова.
Эдуард, еле сдерживая злость, сел на место.
– Обвинение, вызывайте своего свидетеля.
В зал суда медленной дрожащей походкой вошёл пожилой мужчина. Испуганно озираясь по сторонам, он направился к президиуму суда. Секретарь указал свидетелю на трибуну.
– Представьтесь, пожалуйста.
– А?
– Ваше имя-отчество.
– А! Пахом я, Гришин. А так все дедом Семёнычем кличут.
Судья оперся локтями о стол и, положив голову на скрещённые ладони, приготовился слушать.
Обвинитель приступил к допросу свидетеля.
– Расскажите суду, что вы видели в ночь с 30-го на 31-е декабря прошлого года?
– Какому суду, сынок?
– Всем нам.
– Это ещё раз рассказывать, что ли? Так я ж уже рассказывал.
– Попробуйте ещё раз, Пахом Семёныч.
– Ну, значится, было это в прошлом году... Ну как в прошлом году? Прям на конец прошлого года... Под самый Новый год. Зябко было, помню... Снежища прям по пояс намело. В такую погоду надобно на печи лежать да бока греть, а тут моя старуха заявляет: сходил бы рыбку половил, говорит... а то, мол, на праздник на стол ставить нечего. Я говорю: ты чего баба, с печи рухнула? Глянь, что на дворе делается! Метель такая, что ни зги не видать. Да и поздно... Двенадцатый час как уж... А она ни в какую. Зарядила так, что знаю – всю душу вытрясет… Ну, что делать? Оделся я, вышел на дорогу.. Гляжу, а под фонарём грузовик стоит, а мужик на бортах краской что-то рисует.. Присмотрелся – батюшки, а мужик то не нашенский, не деревенский.. Чернявый такой, да к тому ж неграмотный… Кто ж слово «Восход» через букву «А» пишет?
– Свидетель, давайте по существу, – прервал рассказ старика обвинитель. – Расскажите нам, что вы там видели… на реке?
– Да-да, сынок. Ну, значится, дотопал я до речки, а метель всё крутит да пуще завывает. Решил я жерлиц расставить – порадовать старуху щучкой. Щука-то в наших краях знатная, большая... Это вам любой рыбак скажет. Помню, году эдак в сорок седьмом разразилась голодуха на деревне. Так мы только…
– Не отвлекайтесь, Пахом Семёныч.
– Ах да… Ну, значится, прорубил я лунки, сынок, а лёд там добрый… в аршин толщиной. Еле справился. Раскинулся – жду. Ох, и клёв начался тут… Щука чуть ли не на голый крючок брала, успевай только живца насаживать. Поймал много тогда… ну, думаю, пора и честь знать... В это самое время гляжу... озарилось всё вокруг. А это фары от автомобиля прям мне в рожу светят. Думаю, кого ж черти носят в такую стужу? Достал я свои часы, а они показывают без двадцати три.
Народные заседатели, сидящие за длинным столом, оживились.
– Как долго вы оставались там, Пахом Семёныч? – спросил председатель.
– А чего мне было оставаться-то? Продрог, как собака. Собрал свои манатки, да и пошёл до избы… Главное, рыбу поймал, без улова не остался. Я ж даже из лужи рыбку поймаю. Это вам любой мужик в деревне скажет. Помню, пошли мы с мужиками на рыбалку...
– Достаточно, свидетель. Мы услышали всё, что хотели. У защиты имеются вопросы?
– Да, гражданин судья.
Лена встала из-за своего места.
– Свидетель, скажите, пожалуйста, а может, часы работали неисправно? Может, они отставали или, наоборот, спешили?
– Да как же отставали, доченька? За сорок лет ни разу не подвели.
Пахом Семёныч достал из кармана часы на цепочке и гордо показал присутствующим.
– Вот! С убитого фрица снял в сорок третьем, под Смоленском. А чего добру пропадать, думаю? Прежнему хозяину своё время они оттикали, теперь вот мне отмеряют.
– А вы не помните, когда вы уходили, машина там ещё была?
– Что ж не помню? Помню! Там стояла, родимая. По крайней мере, когда свернул на дорогу, фары ещё горели. А там хрен их знает. Чего дальше было, не ведаю.
– У меня всё, гражданин судья.
Лена села на место и стала просматривать бумаги. Мельком взглянув на Эдуарда, она уловила полный мольбы взгляд.
– Вы свободны, свидетель.
– А? Всё, что ли? А, ну тогда я пойду...
Старик вышел на середину зала и в пояс поклонился президиуму. По залу прошёлся смешок.
– Гражданин судья, – обратился обвинитель к председателю, – у меня есть ещё один свидетель.
– Вызывайте.
– Для дачи показаний в зал суда вызывается Хоружий Виталий Викторович.
За трибуной занял своё место высокий мужчина в костюме-тройке. Его туго завязанный широкий красный галстук сильно давил шею, и то ли от этого, то ли от волнения лицо мужчины было багрового цвета.
– Представьтесь, свидетель.
– Хоружий В-виталий Викторович. Тысяча девятьсот пятьдесят первого г-года рождения, – с лёгким заиканием произнёс свидетель и зачем-то добавил: – Женат. Имею д-двоих детей. Состою в партии.
– Скажите, Виталий Викторович, как давно вы знаете подсудимого Гусина Эдуарда Владимировича?
– Мы познакомились в семьдесят седьмом году… тысяча девятьсот, разумеется. Моему отцу в том районе по партийной линии в-выделили землю под строительство. Я часто ездил туда, а Гусины т-там жили. Так и познакомились.
– В каких вы были отношениях?
– В добрососедских. Близко не общались, но при встрече здоровались. Соседи всё-таки.
Свидетель посмотрел на Эдуарда и не узнал его. Вместо некогда холёного, всегда гладко выбритого мужчины на него смотрел худой, измученный человек с потерянным взглядом.
– Как вы можете охарактеризовать подсудимого? – тем временем спросил обвинитель.
– Как я уже сказал, мы б-близко не общались, но со стороны было видно, что мужик он серьёзный, обстоятельный. Что я м-могу ещё сказать? Нормальный советский гражданин, в общем.
– Он часто выпивал?
Свидетель откашлялся и потянул галстук.
– Пьяным я его видел всего д-два раза за всё это время. Один раз это было летом позапрошлого года, а второй раз на его свадьбе.
– Начните с первого раза. Только прошу как можно подробнее.
– К-как я уже сказал, это было летом позапрошлого года. В тот день я решил растопить баньку. Надо было наколоть д-дров. Хватился, а топора нет. Куда он пропал, ума не приложу. Потом, правда, нашёлся под крыльцом. Ну так вот... Решил я тогда у Эдика попросить т-топор. Захожу к нему, а он как раз во дворе был, с ружьём возился. Ну, поздоровались... Ч-чувствую, перегаром несёт. Говорю: а я думал, ты трезвенник. Он ответил, что иногда м-можно. Ну, дело обычное... Кто ж не выпивает? Говорю: дай топор, а то мой куда-то запропастился. Он кивнул в сторону сарая, говорит, забирай. Ну, пошёл я в сторону сарая и тут услышал выстрел. Он метров с сорока в летящую ворону попал.
– И часто он стрелял по воронам?
– Не часто. Только когда выпивал. Я ему говорил, что до добра это не доведёт.
– Скажите, свидетель, вы рассмотрели ружьё?
– А зачем мне его рассматривать?
– В смысле, вы бы узнали ружьё, если бы увидели его?
– К-конечно. У Эдика был ИЖ... Двадцать шестой серии. Редкое оружие. Он п-показывал мне его.
Обвинитель вытащил из-под стола обёрнутое в целлофан ружьё. Приклад и все деревянные части ружья сгорели, а сам металл оружия почернел.
– Скажите, Виталий Викторович, вы узнаёте это?
– Ну, в-вроде это когда-то было ружьём, – замялся Хоружий.
– Вы узнаёте в этом ружье то самое ружьё, которое принадлежало обвиняемому?
– Я протестую, гражданин судья, – отозвалась со своего места Лена. – Как свидетель может различить этот кусок железа от сотен таких же?
– Свидетель, посмотрите внимательнее. Нет ли в этом предмете отличительных черт?
Виталий внимательно разглядел почерневший кусок железа.
– Т-тут есть выгравированные инициалы, как и на ружье Эдуарда. Вот тут, – свидетель ткнул пальцем в вещественное доказательство.
– Что за инициалы?
– В. Г. То есть Владимир Гусин. Это отец Эдуарда. Эдик... то есть обвиняемый мне рассказывал об этом. Поэтому я и помню.
– То есть вы уверены, что это то же ружьё, что было у обвиняемого?
– Определённо. Это то же самое ружьё.
Обвинитель положил остов ружья перед председательствующим и, обращаясь ко всем, громко произнёс:
– Товарищи, довожу до вашего сведения, что этот предмет предположительно и есть орудие убийства, из которого стреляли по жертвам. Его нашли в сгоревшей конюшне. Огонь уничтожил отпечатки пальцев убийцы, но показания свидетеля косвенно указывают на подсудимого Гусина Эдуарда. Прошу приобщить улику к делу как вещественное доказательство.
Судья вздохнул и окинул предмет усталым взглядом. Он уже был знаком со всеми вещественными доказательствами, поэтому эти формальности вгоняли седого председателя в унылую тоску.
– Свидетель, вы когда-нибудь замечали, что между женой подсудимого и его работником есть какие-то отношения?
– П-по моему только слепой мог этого не видеть, – опустив голову, произнёс Хоружий. – О т-том, что они любовники, судачил в-весь посёлок.
– Слухи не в счёт, вы сами видели их вместе?
– Ну, держать свечку не д-держал, но выходящими из б-баньки их видел.
– Виталий Викторович, вы нам сказали, что видели жертв в день убийства. Это так? – спросил обвинитель, не поднимая головы от папки с бумагами, лежащей у него на столе.
– Д-да, видел.
– Как это было? Расскажите суду про этот вечер.
– В тот вечер я опять п-потерял топор. Прямо несчастье к-какое-то с ним. Ну и по старой привычке пошёл к Эдику...
30 декабря 1987 года
– Мам, ты не видела топор?
Виталий, с ног до головы припорошенный снегом, стоял в прихожей в ожидании ответа.
– Нет, – послышался женский голос, – посмотри в сарае.
– Да смотрел уже, – пробубнил Виталий себе под нос и вышел на улицу.
Виталий посмотрел в сторону дровни. Он точно помнил, что в последний раз видел топор где-то в той стороне. Но сейчас весь двор занесло толстым слоем снега, и найти что-либо в темноте под сугробами было невозможно. Виталий представил, как он шарит в холодном снегу руками, как ветер задувает за шиворот хлопья, и решительно отмёл эту идею. Вздохнув и натянув пониже шапку, Виталий вышел на улицу и огляделся. Ветер играл кружевной занавесью снега, за которой трудно было что-либо разглядеть. Вспомнив недобрым словом всех, кто обещал провести газ в посёлок, но так и не провёл, и твёрдо обещав себе привязать верёвкой злосчастный топор куда-нибудь, чтоб уж точно больше не терялся, Виталий успел пройти по заснеженной дороге несколько метров, как всего в двух метрах от него из холодной мглы вынырнул автомобиль и остановился прямо перед его носом.
– Эдик? Ты, что ли? Я как раз к тебе шёл.
– Чего тебе? – нервно спросил Эдуард, опустив окно.
– Слушай, будь добр, одолжи топор.
– Да берите что хотите и отстаньте от меня!
С этими словами Эдуард надавил на газ, и машина, пробуксовав, рванула с места в сторону города.
– Не понял... Что это с ним? – в недоумении спросил сам себя Виталий.
Первая мысль Виталия была развернуться и уйти, но невесёлая перспектива поиска потерянного в снегу топора заставила посмотреть на раскрытые настежь ворота. За ними, словно за не опустившимися после спектакля кулисами, возвышался дом, тоскливо смотрящий на мир тёмными глазницами окон. Выбора не оставалось. Прикрываясь от хлопьев жгучего снега, роем залетающих в уши и глаза, Виталий зашагал к дому соседа. Дойдя до раскрытых ворот и взглянув во двор, он заметил мужчину и женщину, спешно бегущих к флигелю. Виталий узнал жену Эдуарда Лилию и его конюха Павла, так, кажется, его звали. Удивительно было даже не то, что жена, держась за руку другого мужчины, бежит с ним, как только муж выезжает из дома, а то, что она бежит с ним по снегу и жуткому холоду совершенно голая. Выждав немного, Хоружий, охваченный простым человеческим любопытством, подошёл к окну флигеля. Тюлевая занавеска практически не скрывала освещённую комнату, заглянув в которую, Виталий увидел, как Лилия, с распухшим лицом, обнимает Павла. Тот при этом гладил её по обнажённой спине и целовал волосы, разметавшиеся по плечам. Мужчина что-то говорил ей, по-видимому, пытаясь утешить, но та мотала головой и плакала. На её груди поблёскивал золотой кулончик. Окно было довольно высоко, так что Виталий видел любовников лишь наполовину. Чтобы улучшить обзор, он подобрал валявшееся рядом полено и подставил под ноги. Теперь всё происходящее в комнате смотрелось, словно на экране телевизора. Хоружий невольно залюбовался красивыми линиями обнажённого женского тела. Сглотнув слюну, он представил, как Эдуард, а теперь и Павел обладают этой женщиной, и ему жгуче захотелось быть на их месте. Сравнивать это обнажённое чудо за стеклом с собственной расплывшейся после родов женой было совсем уж бессмысленным делом. Даже с обезображенным опухшим лицом Лилия была прекрасна, словно ангел. Чтобы получше разглядеть и запомнить все прелести соседской жены, Виталий сделал неловкое движение к окну. В этот момент сместившийся центр тяжести запустил цепочку событий – сначала его ударило носом по стеклу, а затем опрокинуло на засыпанные снегом поленья. Падая, Хоружий зацепил ногой что-то железное, добавив к звуку падающего тела грохочущий звон. Дополнил звуковое оформление сцены противный хруст поясницы. Боясь быть застуканным, Виталий Викторович, превозмогая боль в спине, отполз от окна и уже через несколько минут, чертыхаясь и сыпля ругательствами, искал свой топор в засыпанных снегом углах дровни.
Зал суда
– Ну, я тогда подумал, что Эдик застал этих двоих и поколотил жену, – подытожил свой рассказ свидетель и замолк.
Держа в руках окончательно снятый галстук, Виталий старался не смотреть в сторону подсудимого. Но даже не видя Эдуарда, он кожей чувствовал, как тот буравит его взглядом.
Обвинитель достал прозрачный пакетик c вещественным доказательством и показал свидетелю.
– Скажите, свидетель, не этот ли кулон висел на шее у Лилии в тот вечер?
– Да, это он, я его почему-то хорошо рассмотрел, – ответил Виталий и смущённо кашлянул.
– Вы уверены? Всмотритесь ещё раз.
– А чего смотреть-то? Это он. Это украшение подарили невесте в день свадьбы. Такой большой зелёный камень трудно не запомнить.
Обвинитель передал кулон председателю.
– Гражданин судья, этот кулон был найден на шее у женского трупа. Прошу приобщить к делу.
Председатель внимательно осмотрел кулон и передал его народным заседателям.
– Свидетель, в ту ночь вы слышали звуки выстрелов?
– Нет, выстрелов я не слышал. На улице была ужасная метель, ветер свистел так, будто сейчас снесёт крышу.
– Но это вы позвонили в пожарную, ведь так?
– Да, я. Наша спальная комната выходит прямо на их дом. После того, что я увидел, сами понимаете, спать не очень хотелось. П-просто лежал и смотрел в потолок. И тут стены в комнате озарились красным цветом. Глянул в окно, а т-там пожарище. Помню, когда выбегал на улицу, п-посмотрел на часы. Знал, что будут спрашивать. Б-было без пяти два.
– Есть ли у защиты вопросы?
– Есть.
– Пожалуйста, задавайте.
Лена встала со своего места и, сверившись с записями, обратилась к свидетелю:
– Виталий Викторович, вы утверждаете, что жена и работник были живы после того, как уехал подсудимый.
– Да, я видел их живыми.
– А до того, как начался пожар, вы видели подсудимого? Или, может быть, слышали звук подъезжающей машины?
– Нет, этого не видел и не слышал. Была такая пурга, что я носа из дома не высовывал.
– У меня всё, уважаемый председатель.
Виталий вышел из-за трибуны и, пряча взгляд, покинул зал суда.
Глава шестая
СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ МИНУТ ЖИЗНИ
Тёплое сентябрьское солнце дарило радость последних дней бабьего лета. В небе проплывали кучерявые облака, точь-в-точь как облака из детских рисунков. Природа отдавала последнюю дань лету, доставая из закромов остатки хорошей погоды. Измайловский парк, подрумяненный желтизной деревьев, блестел водной гладью прудов, на которых покачивались прогулочные лодочки. Над центральной частью парка возвышался памятник вождю революции. Застывший в граните Владимир Ильич, как и положено идеологу государственного переворота, сердито смотрел куда-то вдаль. Под его ногами, нарезая круги вокруг постамента, прохаживались несколько мужчин с цветами в руках. Они сверялись с наручными часами и тоже сердито смотрели куда-то вдаль. Неподалёку небольшой духовой оркестр, устроившись в живописной беседке, пытался играть вальс. Неровная мелодия подбитым воробьём прыгала между гуляющими людьми, словно пытаясь спрятаться в чьих-то руках. Безобразное исполнение могло быть сносным, если бы не отчаянно киксующая труба.
Зона аттракционов была похожа на осиный улей. Всё здесь кружилось, шумело и взлетало. Детские крики, скрип качелей, смех и музыка создавали непередаваемую атмосферу праздника. Люди не успевали вылезать из разноцветных каруселей, как их места тут же занимали другие из длинных очередей, затейливыми узорами оплетающих всю зону развлечений.
Над всей этой какофонией, поблёскивая белыми спицами, возвышался величественный полёт мысли советских конструкторов – колесо обозрения. Называемое в народе «чёртовым колесом», оно было видно со всех уголков большого парка и манило к себе людей, словно пчёл к варенью. Попасть на него было мечтой любого советского гражданина, независимо от возраста и пола. К нему выстраивалась очередь, состоящая из трактористов, учителей, доярок и академиков в чинных костюмах. Четырёхместные кабинки на целых семь с половиной минут отрывали людей от бренной земли и несли ввысь, к облакам.
Эдуард, заботливо придерживая Лилию под руку, вошёл в кабинку колеса обозрения. За ними тут же, словно ураган, влетел всклокоченный мальчишка лет семи с клубничным мороженым в руках. Он уселся напротив супружеской четы и задрыгал ногами.
– Ну, бабушка! Быстрей иди, – противным голосом обратился мальчишка к пожилой женщине, медленно, словно черепаха, входившей в кабинку.
Мальчик сразу не понравился Эдуарду, но он всё же изобразил на лице приветственную улыбку.
– А это не страшно, сынок? – услышал Эдуард скрипучий голос пожилой женщины. – А то ж мы на два круга взяли. Уж не знаю, выдержу ли?
– Баб, смотри! Там пони! – что есть силы заорал мальчик и замахал руками. При этом брызги растаявшего лакомства разлетелись по кабинке и оставили розовые пятна на нежно-голубом костюме Эдуарда.
– А правда, что мы поднимемся выше деревьев? Что, прямо вот выше? А мы не упадём? А что если упадём? Ой, смотри, мы уже высоко! А можно потом я покатаюсь на пони? А колесо не сломается? А если сломается?
Мальчик, ни на миг не умолкая, задавал тысячу вопросов, ни на один из них не удосуживаясь выслушать ответ. Он каждую секунду вскакивал с места, кидаясь из одной стороны в другую. При этом он истошно визжал и кривлялся. Эдуард уже жалел о том, что взял билет на этот аттракцион. Романтическое путешествие под облаками превратилось в мучительное ожидание завершения круга. Бабушка делала какие-то попытки обуздать неугомонного внучка, но это не помогало. Но то, что не смогла бабушка, получилось у высоты. Когда кабинка оказалась на уровне тридцати метров, мальчик притих и прижался к бабушке. Настала вожделенная тишина.
Эдуард воспользовался моментом и шепнул на ухо супруге:
– Тебе нравится?
– Не знаю, – шепнула та в ответ. – Я ещё никогда не была так высоко. Тут как-то страшновато… Возьми меня за руку.
С противоположной стороны кабинки послышались всхлипы. Мальчик уткнулся бабушке в бок и вздрагивал всем телом. Мороженое было на полу и уже превратилось в розовую жижу.
– Не бойся, милая. Я же тут. Ты же знаешь, что я всегда буду рядом и никому тебя не отдам!
– А если меня у тебя захотят отобрать? – В голосе у Лилии появились озорные нотки.
– Кто?
– Ну, например...
Расслышать, кто именно может отобрать у него жену, Эдуард не смог, потому что в этот момент кабинка аттракциона разразилась оглушительным рёвом. Мальчик, вцепившись в платье бабушки и широко разинув рот, неистово орал в верхнем регистре. Кабинка карусели в этот момент находилась на самой высокой точке, так что идею выпрыгнуть Эдуард отмёл сразу. Вторая мысль была выбросить мальчика, и она сейчас показалась не такой уж и кощунственной. Все слова утешения, адресованные ребёнку, безнадёжно тонули в детском плаче. Казалось, что прежде лопнут барабанные перепонки, чем закончится истерика. Но вот кабинка прошла самую верхотуру и стала опускаться. По мере уменьшения высоты плач стихал, и уже можно было расслышать собственные голоса. Эдуард с удивлением заметил, что слова утешения он произносит криком. Через минуту мальчик снова уткнулся в бок бабушке и тихо всхлипывал. Эдуард поспешил вернуться к прерванному разговору.
– Так кто тебя у меня отнимет?
– Я же сказала... любовник... – то ли в шутку, то ли всерьёз ответила Лилия.
– Тогда я убью тебя, любовника, а потом себя, – так же полушутливо, полувсерьёз ответил Эдуард.
– Баб, а мы уже спускаемся? А почему спускаемся? Смотри, баб, там шарики. А ты купишь мне шарики? Вон тот синий хочу! Не хочу выходить! Хочу ещё! Ты же обещала! А если мы застрянем? Я не боюсь, не боюсь...
Мальчик забегал по кабинке, хлюпая растаявшим на полу мороженым и наступая на ноги Эдуарду.
Кабинка остановилась, и Лилия первая поспешила выйти. За ней, осматривая безнадёжно испорченный костюм, вышел Эдуард. На выходе ждали своей очереди степенный мужчина с пышными усами под руку с дородной женщиной. Пребывая в хорошем настроении, они поздоровались и вошли в кабинку. Эдуард проводил их полным жалости взглядом.
…Лязг открывающейся двери выдернул Эдуарда из воспоминаний и вернул в серую, пропахшую затхлостью камеру.
– Гусин, к тебе пришли.
Привычная дорога в комнату для встреч показалась Эдуарду нескончаемой.
– У вас двадцать минут, – буркнул конвоир и закрыл за подсудимым дверь.
В комнате поджидала Лена.
– Как вы, Эдуард Владимирович?
– Это зависит от вас.
Лена сделала паузу. В её взгляде проскользнула теплота. В первый раз за всё время.
– Ваша мама просила передать вот это.
С этими словами Лена достала листок бумаги и положила на стол.
– Не знаю, что это такое, но думаю, это для вас важно.
Эдуард посмотрел на листок и почувствовал, как тяжёлый комок поднялся к горлу. На маленьком листке бумаги была нарисована красивая лошадь. Это был тот самый рисунок, который когда-то Эдуард купил у сочинского художника. На глазах предательски выступили слёзы.
– Спасибо, – дрожащими губами только и смог выдавить Эдуард.
– Не за что. Ваша мать очень переживает за вас.
– Как она? Почему не приходит?
– Она заболела, Эдуард Владимирович. Сами понимаете, всё, что произошло с вами, подкосило её здоровье. Она просила передать вам, что любит и молится о вас.
– Это я виноват. Она так просила, так умоляла... Она знала... Но я ничего не мог поделать с собой. Я любил Лилию. Теперь рядом нет ни мамы, ни жены, ни даже свободы.
Эдуард вытер слёзы и попытался взять себя в руки.
– Есть какие-то новости в нашем деле?
Лена вздохнула.
– Новости не очень хорошие. У обвинения неопровержимые доказательства. Есть улики и свидетели. В то время как у нас голословные предположения. Эдуард Владимирович, давайте начистоту. Все улики указывают на вас. И я теперь даже не уверена в вашей правоте. Я понимаю, для вас это шок. Вам трудно принять эту правду и тем более жить с ней. Вам светит десять лет тюрьмы. Вы понимаете это? Давайте сделаем что-нибудь для вашего спасения.
– Что, например? – глухим голосом спросил Эдуард.
Лена вздохнула ещё глубже:
– Чистосердечное признание. Оно уменьшит вам срок.
Адвокат попыталась поймать взгляд Эдуарда, но тот уставился на стол. Повисла напряжённая пауза. Лена терпеливо ждала.
– Я… не знаю... Я не чувствую, что убил их, – наконец выдавил из себя Эдуард. – Я не мог этого сделать.
– Ваши чувства к делу не пришьёшь. Нужны до-ка-за-тель-ства! А их у вас… у нас... нет.
Эдуард поднял глаза и уставился на противоположную стену. Серая, суровая, холодная, она напомнила ему надгробный камень. Эдуарду нестерпимо захотелось на волю, под открытое небо. Туда, где нет ничего, что скрывало бы горизонт. Это место может быть пустыней, океаном, льдами – всё равно чем. Но чтобы там не было проклятых стен.
– Подумайте о своей матери, – вкрадчиво добавила Лена. – Если вам дадут меньший срок, у неё будет шанс дождаться сына.
Ночью приснился кошмарный сон.
Из темноты доносились женские стоны. Вдруг в кромешной тьме открылась дверь, и яркий свет озарил сгустившийся вокруг мрак. Эдуард вошел в залитую золотым светом комнату. Это была их спальная комната. В постели лежали любовники. Не замечая ничего вокруг, они предавались страсти. Неожиданно в руках у Эдуарда появилось ружьё. Он прицелился и спустил курок.
Эдуард вскрикнул и проснулся. Сердце билось как отбойный молоток.
– Прости, прости…
Он в первый раз подумал – а что, если... Мысль была настолько ужасная, что Эдуард постарался тут же отогнать её.
Глава седьмая
ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ
– Защита вызывает свидетеля Любовь Александровну Гусину.
Услышав имя матери, Эдуард поднял глаза и посмотрел в сторону входа. Дверь открылась, но матери он не увидел. Вместо неё в зал вошла сгорбленная пожилая женщина в синем платке и с опущенными плечами. Держа у рта платок, женщина засеменила к трибуне. Проходя мимо Эдуарда, она посмотрела в его сторону. Только сейчас, когда женщина оказалась в двух метрах, Эдуард узнал в этой, будто бы придавленной к земле тяжёлой ношей, женщине собственную мать.
– Представьтесь, свидетель, – попросил председатель.
– Аз есмь Любовь... – произнесла женщина дрожащим голосом.
– Простите... как?
– Гусина Любовь Александровна.
– Напоминаю вам, что дача ложных свидетельств карается УК РСФСР.
– Мне нечего скрывать, гражданин судья.
– Ну, что ж, это хорошо. Можете приступать.
Лена встала с места.
– Любовь Александровна, расскажите про ваши отношения с вашей невесткой, ныне покойной Лилией.
– А что о них рассказывать? Не было никаких отношений. Она мне сразу не понравилась. Не такую жену я хотела своему сыну. Приехал радостным, весь светится: влюбился, говорит, в цыганку, хочу жениться на ней. Я пыталась отговорить, но он настоял на своём. Против матери пошёл. Поплакала я, поплакала, а что поделаешь?
– Ваш сын всегда отличался решительным нравом?
– Ну, я бы не сказала, что он был упрям. Правильным был, покладистым. Всегда соглашался со мной, наперекор ничего не говорил. Но в этот раз будто бес вселился в него. Словно эта цыганка... покойница... околдовала его.
– А в детстве какой он был?
– Эдуард рос спокойным, серьёзным, примерным мальчиком. Конечно, как и любой мальчишка, он иногда шкодил, но мы с мужем пытались его воспитывать правильно.
– А как он шкодил? Вы рассказывали мне, что в детстве он любил играть с игрушками в солдатики.
– Да, играл. Так все ж мальчики играют в них.
– Расскажите нам, как он играл в солдатики.
– Я… право… уже не помню.
– В таком случае я скажу. Любовь Александровна, вы сами мне рассказали, как он, играя в «фашистов и наших», отламывал игрушкам головы, а затем, будто бы пытая, сжигал их на костре во дворе за домом.
Народные заседатели все как один подались вперёд. Даже обвинитель в недоумении посмотрел на Лену.
– Да, но ведь он был маленьким, совсем глупым. Он же был ребёнком. Тем более муж, однажды застав Эдуарда за этим занятием, сильно наказал его.
– …так что ребёнок попал в больницу с сотрясением мозга. Далее у него начали наблюдаться психические отклонения и провалы в памяти.
Лена быстрым движением достала какую-то бумажку и показала председателю суда.
– Вот справка из больницы и выписка из истории болезни Эдуарда Владимировича Гусина о том, что он лежал в отделении невропатологии.
Обвинитель, наконец поняв, куда клонит адвокат, вскинулся с места и громко произнёс:
– Я протестую, гражданин судья. Психиатрическая экспертиза показала, что подсудимый психически здоров и в момент убийства отдавал себе отчёт в своих действиях.
– Но его проверяли в тот момент, когда он уже был трезв. Психические проблемы, в частности неуправляемая агрессия, возникают в минуты опьянения.
– Протест принят. Есть бумага, удостоверяющая суд в том, что подсудимый здоров.
– В таком случае, у меня нет больше вопросов, – спокойно ответила Лена и села на место.
– Подождите, как нет вопросов? – удивлённо спросила Любовь Александровна. – Спросите меня ещё о Эдичке. Спросите, каким он был директором?
Лена молчала.
– Бе благий владыка! Вскую укорити поробка мое? Блядословите, аки антихристи! – вдруг диким голосом закричала Любовь Александровна. – Отпустите его! Я требую немедленно отпустить моего сына! Я буду жаловаться... Слышите? Буду жаловаться!
Председатель в первый раз за весь процесс достал свой молоток и громко, с наслаждением постучал по столу.
– Свидетель, прекратите истерику, не то мне придётся вывести вас из зала слушаний.
Затем он обратился к Лене.
– У вас ещё есть вопросы? Нет? Тогда свидетель может сесть на место.
Любовь Александровна, зажав рукой рот, вышла из-за стойки и, найдя свободное место, села.
– Приступаем к прению сторон. Товарищ прокурор, у вас первое слово.
Обвинитель, в форменном мундире и начищенных до блеска ботинках, встал и откашлялся.
– Уважаемый суд! Окончилось судебное следствие, и для нас наступил ответственный момент оценить представленные доказательства и ответить на поставленные вопросы: имело ли место совершение преступлений – убийства и поджога; совершил ли их подсудимый Гусин; виновен ли подсудимый в совершении этих преступлений?
Обвинитель сделал многозначительную паузу. В зале было так тихо, что было слышно, как за окном переругиваются дворники.
– Был ли у него мотив преступления? Да, был, и он очевиден, уважаемые народные заседатели. Убийства из ревности происходят сплошь и рядом. По статистике, примерно двадцать процентов убийств происходят из-за ревности супругов. Кроме того, около сорока процентов преступлений совершаются во время алкогольного опьянения. То есть, даже исходя из сухих цифр, мы можем сделать некоторые умозаключения. Но суд не место для гаданий. Правосудие не может себе позволить полагаться только на статистику. Поэтому, не утомляя вас скучными цифрами слепой статистики и длинными тирадами о моральных аспектах этого дела, сразу перейду к фактам. А факты совершения убийства и поджога считаю бесспорно доказанными, и хронология той ночи отчётливо показывает ход событий, приведших к ужасной трагедии.
Итак: около 21:00 сосед, Хоружий Виталий Викторович, видит, как подсудимый уезжает из дома. Далее он становится свидетелем того, как избитая, но пока живая жена общается со своим любовником. В 22:00 подсудимый входит в банкетный зал, где его видят многочисленные гости, и, пробыв там около двух с половиной часов, уезжает. При этом есть многочисленные свидетельства, что во время ухода он был пьян. В десять минут второго ночи он подъезжает к автозаправочной станции. Свидетель, Манафов Эльбрус Алиагаевич, в своих показаниях подчеркнул, что в момент, когда машина подъехала к автозаправке, бензобак в ней был пуст. Именно так сказал сам подсудимый. Далее Эльбрус Алиагаевич продаёт подсудимому двадцать литров бензина и подсудимый уезжает в неизвестном направлении. Дальнейшие его передвижения и местонахождения не может подтвердить никто. Хочу заострить ваше внимание на одном очень важном факте. В момент обнаружения автомобиля в бензобаке машины было всего пять литров бензина. Было установлено, что от автозаправки, по заснеженной дороге, до точки, где был обнаружен автомобиль, расходуется около 4-5 литров бензина. Отсюда вопрос: куда делись ещё 10 литров горючего? При наличии сгоревшей конюшни ответ на этот вопрос проясняется сам собой. К тому же на руках, брюках и рубашке подсудимого найдены следы бензина. Пожар начался около двух часов ночи. Сосед подсудимого по даче зафиксировал время возгорания в своих показаниях. В свою очередь, другой свидетель, Пахом Семёныч, видел горящие фары в 02:40 именно на том месте, где впоследствии нашли Гусина Эдуарда Владимировича, спавшего в салоне своего автомобиля.
Прокурор замолчал, давая время суду и присутствующим переварить сказанное. Глотнув воды из гранёного стакана, он продолжил.
– Из всего сказанного становится ясна картина преступления. Подсудимый, приревновав жену к Константину Будылину, работнику подсудимого, сперва избил жену, потом напился и, не в силах забыть обиду, вернулся домой, чтобы расквитаться с любовниками. Подсудимый нашёл их во флигеле Будылина. Воспользовавшись ружьём, подсудимый жестоко расправился с жертвами. Затем, заметая следы, он поджёг флигель и выбросил в огонь орудие убийства. Далее подсудимый уезжает с места преступления в пытается спрятаться в глуши. Не в силах справиться со стрессовой ситуацией и под воздействием алкоголя Эдуард Гусин засыпает в своей машине, где впоследствии его и находит милиция.
Товарищи народные заседатели, уважаемый суд! Я прошу не обманываться видом этого, позвольте сказать, гражданина. История криминалистики знает много случаев, когда люди, по виду не способные на жестокость, оказывались отъявленными убийцами. У обвиняемого был мотив, была возможность и зверское желание мести. Но самое главное, у него нет алиби. Нет ни единого человека, который смог бы подтвердить его невиновность. Я считаю, этот человек виновен и должен быть наказан по всей справедливости закона.
С этими словами обвинитель громко захлопнул папку с бумагами и, довольный выполненной работой, сел на своё место. Присутствующие посмотрели на Лену. Она отстранённо рисовала на бумаге замысловатые закорючки и будто бы не слышала и слова из того, что говорил обвинитель.
Председатель привычно вытянул губы в трубочку и сказал:
– Ну что ж, весьма занятное выступление. Слово предоставляется защите.
Лена нехотя оторвалась от рисования и поднялась с места.
– Уважаемый суд! Думаю, долго говорить в этой ситуации излишне. Обвинение не предоставило ни одного неопровержимого доказательства виновности моего подзащитного. Мы услышали лишь одни умозаключения, которые могут истолковываться как против, так и в пользу обвиняемого Гусина Эдуарда Владимировича. Вся суть обвинительной речи прокурора состояла в том, что «он виновен в убийстве, потому что больше некому». Считаю, что это в корне неверно и противоречит принципам справедливого суда. Гражданин судья, уважаемые народные заседатели, перед вашими глазами в течение нескольких дней разыгрывалась человеческая трагедия. Трагедия судеб нескольких людей. И в этой трагедии мой подзащитный жертва, а не злодей. Считаю, что все обвинения, выдвинутые в адрес моего подзащитного, несостоятельны и не доказывают его вину. Прошу оправдательного приговора. Спасибо.
Лена села и принялась дорисовывать закорючки. На листке получились горы с большой буквой «К».
– Вы закончили? – устало произнёс председатель. – В таком случае, подсудимому предоставляется последнее слово.
Все оглянулись на Эдуарда. Тот с отсутствующим взглядом по-прежнему смотрел на плакат.
– Гусин, – повысил голос председатель, – у вас будет последнее слово?
Эдуард вздрогнул и посмотрел на президиум. Поняв, что от него хотят, он встал с места. В голове была абсолютная пустота. Не было ни слов, ни мыслей, ни желания что-либо говорить. Что он мог сказать? Как объяснить этим чужим людям свои чувства? Кроме того, у него была какая-то железная уверенность, что всё сказанное им сейчас будет лишь глупой формальностью. Бездушная процессуальная норма, никоим образом не влияющая на окончательный приговор.
В памяти всплыл рассказ одного знакомого. Случай про то, как одному подсудимому, которому светило десять лет заключения за разбой, случайно в руки попалась книга, в которой описывалось последнее слово революционерки, обвиняемой в терроризме, после которой её оправдали. Тот подсудимый просто списал и вызубрил весь текст последнего слова обвиняемой и толкнул её на суде. Говорят, что зал рыдал и суд вынес самый мягкий приговор из возможных. Дали всего два года, да и то условно. После этого тот подсудимый ещё жалел, что на последних страницах речь революционерки прерывалась из-за выдранных страниц книги, и он не смог выучить её всю. И если бы не эта досада, то его, может быть, даже и оправдали.
– Вы будите говорить? – прозвучал раздражённый голос председателя.
– Я не знаю, почему я здесь, – тихим голосом заговорил Эдуард. – Это похоже на страшный сон. Я любил свою жену, и теперь её нет. Лучше бы я умер вместе с ней. Вы хотите меня наказать? Жить без неё – вот самое страшное наказание. Никто из вас не придумает для меня кары страшнее. Я не знаю, кто это сделал, но это был не я. Я не виновен!
Эти слова были сказаны тоном человека, который понимал, что он обречён.
– У вас всё?
Эдуард молча сел на место.
– Суд удаляется для вынесения приговора! – с плохо скрываемой радостью сказал объявил председатель и встал из-за стола.
Глава восьмая
ПАДШИЙ АНГЕЛ
– Подъём!
О, как ненавидел это слово Эдуард. Тяжёлое, жёсткое, не терпящее возражений... Слово, которое вот уже второй год будило Эдуарда в колонии общего режима, куда его перевели отбывать наказание. Словно холодное лезвие, это слово разрезало пелену ночного забытья и возвращало в мрачную реальность. Словно знаменовало начало нового, выброшенного из жизни дня, который нужно было просуществовать в бесцветном пространстве, среди бесцветных людей.
Вмонтированный в стену репродуктор вдруг ожил и, зашелестев рваной мембраной, хрипло запел:
«Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!»
Бравурные звуки гимна наполняли камеру торжественной мелодией, слишком неподходящей для окружающей обстановки. Один за другим из-под одеял и бушлатов высовывали головы арестанты и первым делом посылали проклятия в адрес осточертевшей всем музыки.
Эдуард протёр глаза и сел на шконке. Спина и руки ужасно ныли. Тонкий ватный матрас за ночь проваливался сквозь широкие металлические прутья, так что к утру исхудавшее тело поленом лежало на решётке. Что же он видел во сне? Опять что-то тягостное, тревожное? Сны в тюрьме не отличаются радостью и обилием красок. Мрачному миру заключения удаётся проникнуть и в подсознание, разливая там свою желчь и убогость. Но иногда... Очень редко... Прекрасная фея сновидений сжаливается над сидельцем и дарит ему сон, полный любви и красоты. Тогда снится заключённому синее небо в кучерявых ватных облаках, яркое солнце, щекочущее глаза, бескрайнее море с белым парусом и зелёные луга с пёстрыми цветами. И сны эти живые, поющие блаженством свободы, дарящие нежность и тепло. Они запоминаются, про них рассказывают друг другу. После таких счастливых снов особенно трудно просыпаться и возвращаться в реальный мир. Слишком больно падать с высоты на дно. Эдуард попытался ухватиться за обрывки сна, оставшиеся в памяти. Вместо этого в голове зазвучал голос председателя суда, зачитывающего приговор:
«Приговаривается к тюремному заключению сроком на десять лет в колонии общего режима».
Крик матери, стук молотка, щелчок наручников...
Испуганные лица, биение сердца, бег...
Грязный пол, боль в суставах, вкус крови...
Взгляд Лены... с улыбкой на лице... С улыбкой...
...– Раз, два, три, четыре... стой! – тем временем отсчитывал репродуктор шаги утренней зарядки. – Подняли руки... Вдох, выдох, вдох, выдох...
«Вдох-выдох – так и живём», – подумал Эдуард. Всё, что нужно тут для жизни, – это просто дышать. Всё за тебя размерено, очерчено, запланировано и утверждено. От подъёма до отбоя, вся жизнь по распорядку. Замкнутый круг, откуда нет выхода. Надоевшие лица... Постылые разговоры... Осточертелые действия. Дни размыты в одну сплошную полосу без очертаний и разметок. Словно гладкая лента, она тянется из вчера и уходит в завтра. Память скользит по ней, не задерживаясь, как ластиком стирая прожитое везде, где прошла. Единственное, на чём сознание делает засечку, это банный день. Тогда ты понимаешь, что прошла неделя. Поэтому новичкам проще отсчитывать будущее по банным дням. «Через тридцать бань», «Через пятьдесят бань», сто, двести… Те, у кого это не первая «ходка», уже ничего не считают. Они привыкают жить в этом временнóм киселе, который обволакивает, погружает в себя.
В таком пространственном тумане любое действие, нарушающее монотонное течение жизни, будь то письмо или передача с воли, или вызов к начальнику по воспитательной части, сразу превращается в из ряда вон выходящую тему, которая захватывает твои мысли, мёртвым узлом привязывает сознание, заставляет вновь и вновь возвращаться к ней.
Мысли, словно ребёнку, нужна пища для роста. Она не может существовать только за счёт воспоминаний из прошлого. Тем более если в этом прошлом было много того, что вызывает сожаление. В такие моменты на помощь приходит мечта. Она подаёт спасительные нити раздумий с бесконечным множеством сюжетов, меняющихся по собственному желанию. Главное в этих воображаемых историях то, что человек добивается желаемого. У каждого эта история своя. Кто-то мечтает о мести, кто-то думает о женитьбе на любимой, оставленной на воле, кто-то представляет красивую жизнь. Единственное, что объединяет эти мечты, это то, что всё это происходит вне тюрьмы, на воле.
– Наша зарядка закончилась. Переходим к водным процедурам, – подытожил репродуктор и замолк до завтрашнего утра.
Эдуард взглянул на соседнюю койку, на которой спал Марат. Он лежал на боку, подперев голову рукой и отсутствующим взглядом смотрел в сторону Эдуарда.
То, что Марат спит с открытыми глазами, Эдуард узнал не сразу. В первую ночь Эдуард очень испугался, когда, проснувшись, в тусклом свете ламп заметил зека, который буравил его немигающим взглядом. Глаза были бесчувственными, как у мёртвого. В ту ночь ему так и не удалось заснуть. Это потом уже Эдуард узнал, что эту странную особенность Марат развил специально. Горький опыт скитаний по зонам научил его быть всегда начеку.
Марат был зеком, за плечами у которого уже были две «ходки». И каждый раз он проходил по своей «родной» 218-й статье, связанной с хищением, хранением и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов. Он был из числа тех зеков, которых на зоне называли «авторитетными», и единственной преградой между ним и кастой «блатных» был не столько комсомольский значок, носимый когда-то в молодости, сколько отсутствие желания самого Марата. С виду он был похож на преподавателя математики. Такие же степенные манеры, бородка клином, седина, обрамляющая лысую макушку и добрые глаза, смотрящие поверх круглых очков. Марат на первый взгляд производил впечатление человека неконфликтного и спокойного. Впрочем, так и было. Он никогда не спорил и не повышал ни на кого голос. Никто не слышал, чтобы Марат когда-нибудь матерился и сквернословил. И тем не менее так получалось, что его слово в каждой дискуссии становилось последним и ставило жирную точку. За видимой кротостью скрывались поистине железная воля и непоколебимая уверенность. В среде сидельцев ходили легенды о том, как администрация пыталась сломать его, месяцами держа в карцере, угрожая и избивая. И каждый раз Марат, побитый, но не разбитый, истекающий кровью, но не обескровленный, выходил из этих боёв победителем. Причин не любить Марата у администрации колонии было предостаточно, но поняв, что переломить его через колено будет себе дороже, начальство решило использовать его авторитет в свою пользу. Вызвав однажды к себе, «хозяин» колонии предложил ему стать бригадиром одного из отрядов, но перспектива «бугра» Марата не заинтересовала. Он был сам по себе, имел обо всём собственное мнение и желания ходить по ниточке, протянутой администрацией, не высказал. При всём этом, вопреки своему бунтарскому духу, Марат от работы в цехах никогда не отказывался. Он считал, что физическая работа, какая бы она ни была, идёт на пользу телу и душе. Ещё он очень любил читать... Всё своё свободное время Марат проводил за книгами и имел обыкновение записывать в отдельную тетрадь отрывки и цитаты, показавшиеся ему интересными. Его интересовало всё: право, история, физика, художественная литература, и не было такой области, в которой бы он не разбирался. Ко всему этому он помогал заключённым в составлении заявлений о пересмотре дел и кассационных жалоб. Только за свою последнюю ходку путём одних лишь переписок он смог скостить срок нескольким сидельцам, а одного даже освободить после пересмотра дела. И немудрено, что за все свои деяния и человеческие качества на зоне Марат получил прозвище «Уважаемый». Причём так его звали не только зеки, но и работники администрации.
Близкое общение Марата с Эдуардом завязалось не сразу. Поначалу к новенькому присматривались, прощупывали, мерили взглядами. Словно стая собак, настороженно обнюхивали с ног до головы, замечая каждую деталь, улавливая каждое движение, готовые в любой момент разорвать первохода в клочья, если тот даст слабину. Уважаемая здесь 102-я статья на первых порах несколько смягчала пресс, который испытывает любой новичок на зоне. В дальнейшем никаких скидок на былые «заслуги» ждать не приходилось, и Эдуард словом и делом должен был отвоёвывать свой кусочек неба за колючей проволокой.
Тюремная библиотека, в которой как-то встретились Эдуард и Марат, состояла из двух покосившихся этажерок, на которых пылилось около пяти десятков замусоленных книг. В основном это были произведения одобренных советской властью авторов, научная литература и несколько книг русских классиков. Судить о востребованности какой-либо из книг можно было по степени их потрёпанности. Самые свежие книги были на нижних полках. По их виду можно было предположить, что почти никто из читателей не заглядывал в них дальше переплёта. Зато на верхних полках находились книги, которые были похожи на ветхозаветные писания в оригинале. Облупившиеся, потрескавшиеся, с погнутыми уголками страниц, эти книги, казалось, держались из последних сил, чтобы «жечь глаголом сердца» зеков.
– Интересуешься литературой? – спросил Марат, завидев рассматривающего книги Эдуарда.
– Да, хочу почитать что-то. А то чувствую, что начинаю тупеть.
– Да, знакомое чувство. Я сам по третьему разу читаю это всё.
– Может, что-то посоветуешь?
– Из этого? Не думаю, что тут есть что-то интересное для тебя. – Марат оценивающе посмотрел на Эдуарда. – Знаешь, что? Пойдём-ка со мной. Я тебе дам кое-что поинтересней.
Они последовали в барак, где Марат, пошарив под шконкой, достал книгу.
– На, держи.
С этими словами, он протянул Эдуарду пухлую книгу. Это была книга про древние мифы и легенды с репродукциями картин великих художников на библейские темы.
– Береги её как зеницу ока. Вернёшь, когда прочитаешь. Если понравится, ещё дам.
– Не знаю, как и благодарить, Уважаемый.
– Не надо благодарить. Хорошему человеку ничего не жалко.
...Тем временем заключённых выстроили в два ряда и вывели из барака на утреннее построение. Отрядник, маленький усатый капитан, важно, словно павлин, прохаживался перед заключёнными, пока его помощник выкрикивал имена.
– Кузьмин Василий!
– Я!
– Волков Анатолий!
– Я!
– Колонтадзе Нодар!
– Я!
Такие разные жизни, но такие одинаковые судьбы.
Перекличка была закончена, и строй повели на завтрак. Эдуард часто ловил себя на том, что утренняя перекличка начинала вызывать у него слюноотделение. Точь-в-точь как в классическом эксперименте Павлова на собаках. В столовой было шумно и пахло хлоркой. Зеки сели по своим местам и, пока разносили утреннюю кашу, обсуждали новости.
После завтрака отряд повели на работу в промзону. Колония изготавливала тапочки и шила брезентовые варежки. Шить варежки – невесть какая интересная работа, но она всё-таки привносила хоть какой-то смысл в прожитый день. Монотонный стук швейной машинки заполнял внутреннюю пустоту, но что ещё важнее, приносил доход на лицевой счёт, который в месяц два раза позволял отовариться необходимым в местном лабазе. В последнее время передачки от матери приходили всё реже и реже. А за последние два месяца Эдуард не получил ни одной. Не было даже писем. И Эдуард стал уже волноваться за мать. В этом мире у него, кроме матери, не было ни одного близкого человека. И потерять её означало остаться совсем одному. К этому Эдуард был совершенно не готов.
Пошивочный цех представлял из себя старый деревянный барак с покосившейся крышей. Внутри, близко друг к другу, в три ряда были расставлены швейные машинки. Рабочее место Эдуарда находилось у стены, в которую были вбиты гвозди, служившие вешалками, – на них заключённые вешали свою верхнюю одежду, когда заходили в барак. По правую руку от Эдуарда через узкий проход сидел Марат. Дневной план заключённого в швейном цеху состоял из пятнадцати пар варежек. Обычно арестанты не выдавали и половины из этого плана, а из того, что сшили, половина была браком. Ни выговоры, ни лишения прав на отоварку в лабазе не могли выправить ситуацию. Арестанты относились к своему делу как к «принудиловке» и косили от смены кто как мог.
Этот рабочий день в цеху не должен был отличаться от сотен таких же, которые Эдуард просидел за своей швейной машинкой. Он уже включил электрическую машинку и уже полез за заготовками, когда в цех вошли несколько человек в погонах. Среди них особо выделялся старшина, которого за сходство с известным непарнокопытным на зоне прозвали Конём.
Все зеки зоны люто ненавидели Коня за его дотошность и вредность. Ничто не могло ускользнуть из его внимания. Он считал личной победой, когда находил у заключённых запрещённые вещи, с удовольствием доносил начальству о зеках, которые во внеурочное время выходили из барака или курили после отбоя. Начальство зоны, в свою очередь, всячески поощряло и поддерживало его рвение к работе, из-за чего активность Коня возрастала из года в год.
Но из всех историй, которые рассказывали на зоне про Коня, особо выделялась история про посылку. Однажды Коню пришла телеграмма с почты, в которой сообщалось, что его ждёт присланная кем-то посылка. С самыми радостными чувствами старшина забрал посылку и отнёс домой, где в присутствии жены, в почти торжественной обстановке, посылка была вскрыта. Какое же удивление ждало его, когда вместо деликатесов в коробке они обнаружили пять килограммов отборного овса...
– Вот он, – крикнул Конь и указал на Марата.
– Уважаемый, не угодно ли вам пройти в администрацию? – нарочито вежливо произнёс один из вертухаев.
– А с какой стати, позвольте узнать? – ответил вопросом на вопрос Марат.
В этот момент Эдуард почувствовал, как под столом в его бедро что-то ткнулось. Эдуард, делая вид, будто занят машинкой, взглянул вниз и увидел руку Марата, сжимающую сложенные в трубочку деньги. Судя по ассигнациям и объёму, сумма была весьма значительная.
– По кочану! Вставай, мать твою.. и тащи свою задницу к куму! – рявкнул Конь и пошёл к Марату.
Эдуард снова почувствовал тычок, но в этот раз он был гораздо требовательнее. Ситуация требовало немедленного решения. На раздумья не оставалось ни секунды. Незаметно для окружающих Эдуард взял деньги и бросил на пол. Затем, накрыв их ногой, подгрёб под себя. Это лёгкое, едва заметное движение не осталось без внимания Коня.
– Ты чё заёрзал? Делом займись, дармоед!
Марата скрутили и вывели из барака. Вновь застрекотали швейные машинки. Это был обычный эпизод из тюремной жизни, которые случаются повсеместно и к которым давно привыкли.
Подошва казённого ботинка нестерпимо жгла пятку. Эдуард продолжал шить, но перед глазами всё плыло и скакало. Мысль лихорадочно пыталась найти выход из сложившейся ситуации. Эдуард понял, что стукачи донесли на Марата из-за денег и что, не найдя их на Марате, вертухаи скоро придут за ним. Конь заметил движения Эдуарда. Как дважды два он поймёт, что к чему. Где спрятать деньги? На себе – не вариант... Обшмонают сверху донизу, разденут догола и обязательно найдут. На рабочем месте? Будут обыскивать все щёлки... Мысли совершенно запутались, и тут взгляд Эдуарда упал на стену.
«Самсонов С.А. 5-й отряд» – прочитал Эдуард.
Через час дверь с грохотом открылась, и в помещение почти аллюром вбежал Конь. Судя по виду, он был взбешён. Слово «взмыленный» в этот момент очень хорошо подходило и к его прозвищу, и самой внешности старшины.
– Гусин Эдуард! – заорал Конь.
– Я! – отозвался Эдуард и выпрямился в струнку.
– Поднять руки, чтоб я их видел! – приказал старшина. – И выйти из-за рабочего места.
Эдуард послушно выполнил приказ и стал в узком проходе между рядами.
– Где деньги?
Эдуард молчал. Другие арестанты прекратили работу и с интересом смотрели на происходящее. Вечером, перед отбоем эта история уже станет достоянием всей зоны.
– Где спрятал бабло, спрашиваю?
– Какое бабло?
– Послушай, фраер, ты со мной не дури! – шумно фыркнул через расширенные ноздри Конь. – Я ж тебя, как вошь, раздавлю!
Когда его под руки выволакивали из цеха, Эдуард краем глаза увидел, как Конь топчется у его швейной машинки.
«Интересно, куда поведут? Если в бараки, значит козлы прессовать будут. Если в администрацию, то менты... Хоть бы в администрацию повели... С ментами попроще будет. Они не так лютуют».
К радости Эдуарда, повели в администрацию.
«К хозяину», – подумал Эдуард, но к его удивлению, вместо третьего этажа, где был кабинет начальника колонии, они спустились по узкой, закрашенной красным цветом лестнице в подвал. Дальше был узкий коридор с одной дверью в конце. Весь пол коридора тоже был красного цвета. Эдуард слышал от зеков, что и лестница, и коридор были закрашены в красный цвет, чтоб на них не было видно следов крови. Про эту комнату по зоне ходили страшные рассказы. Это была настоящая пыточная камера для особо упёртых отказников. Шаги гулко отзывались от стен так, что, казалось, вместо трёх пар ног по коридору марширует целая рота солдат.
У входа их догнал Конь.
– Подождите пока. Я скажу, когда заводить.
С этими словами он прошёл в комнату. Через несколько минут напряжённого ожидания дверь открылась, и оттуда высунулась конеподобная голова старшины.
– Ну, сейчас ты заговоришь, как миленький, – заржал он. – Заводите.
Комната представляла собой узкую длинную каморку, у дальней стены который был стол, за которым сидел сам начальник колонии. Это был огромного роста мужчина с пышными усами и лысой головой. Неестественно маленькие глаза на широком лице сверкали злостью. Морщинистый лоб был усеян крупными каплями пота, которые, скатываясь по гладко выбритым щекам, образовывали небольшой водопадик на подбородке.
Справа от начальника тюрьмы стоял председатель совета коллектива колонии, или, по-простому, «Главкозёл». Заключённые боялись этого долговязого зека даже больше, чем «хозяина». Информация со всех стукачей зоны сливалась именно к нему, а он сам уже решал, о чём доложить начальнику, а кого отмазать. Молчание, естественно, стоило денег, и порой немалых. Блатные вынуждены были считаться с Главкозлом, потому что он фактически ходил в заместителях начальника по воспитательной работе. И ссориться с ним было себе дороже.
Слева от начальника, чуть пригнувшись, стоял старшина.
Эдуарда усадили на вмонтированный в бетонный пол железный стул с очень высокой спинкой. Со стороны это сооружение больше походило на электрический стул, чем на обычный предмет мебели. В этот момент Эдуард заметил на полу валявшуюся половую тряпку красного цвета. «Не домыли, что ли?», – подумал Эдуард, но, присмотревшись, понял, что это майка, щедро залитая кровью.
«Марат! Что они с ним сделали?»
В голове замелькали образы средневековых пыточных комнат. Эдуард даже оглянулся в поисках дыбы. Сердце сжалось от тяжких предчувствий. По всему было понятно, что церемониться с ним не будут.
– Гусин... – прозвучал басистый голос начальника. – Давай по-хорошему. Мы знаем, что заключённый Марат Мустафаев передал тебе деньги. В другое время я бы не стал заморачиваться с этим, но эти деньги являются важным вещественным доказательством его преступления. Этот старый хрен умудряется проворачивать свои делишки, даже сидя в тюрьме. Поэтому по-хорошему спрашиваю: где они?
Эдуард услышал, что надзиратели, стоящие за ним, сделали шаг вперёд.
За два года, которые Эдуард провёл в колонии, он умудрился не нарушить ни один из неписаных тюремных законов. Он твёрдо усвоил уроки, которые ему дал смотрящий за хатой ещё в СИЗО. Судьба подкинула ему непростой выбор: прогнуться под администрацию, стуча и шпионя за сокамерниками, или пойти против системы, но для этого нужна была недюжинная сила воли, чтобы противостоять казённому прессу. Это не был выбором между добром и злом, где добро – это сотрудники правопорядка, а зло – криминал. Как и в жизни, в тюрьме не бывает идеально белого и абсолютно чёрного цветов. Везде есть полутона и оттенки. Заключённый в робе мог быть интеллигентнейшим семьянином, а надзиратель настоящим садистом в униформе. С другой стороны, встречались конченые уголовники, без каких-либо признаков прописной морали, и были надзиратели, с которыми можно было по-простому перекинуться словечком-другим. Потеряться в этой запутанной враждебной среде было проще простого, поэтому Эдуард нашёл свою единственную путеводную звезду, которая называлась справедливость. Выдавать товарищей везде и во все времена считалось несправедливым. Сейчас у него требовали предательства. Ему нужно было сделать выбор между трудным и очень трудным. На одной чаше весов была боль от терзаний совести, а на другой боль от терзаний телесных. А в более долгой перспективе от его настоящего выбора зависело – жить ему или быть убитым.
– Товарищ начальник, я не в курсе. Я не понима...
Договорить ему помешал сильный удар в челюсть. Всё в комнате поплыло и провалилось в кромешную тьму.
– Гууусииин... Гуусиин...
Неприятный голос доносился откуда-то сверху и казался далёким и неважным. Сознание возвращалось по крупинкам, отдельными чувствами, улавливающими реальный мир. Во рту был противный вкус крови, челюсть свело судорогой, а в ушах стоял нестерпимый свист. Эдуард разлепил глаза и увидел перед собой начальника тюрьмы.
– Пришёл в себя, голубчик? Ну вот и хорошо. Тогда мы продолжим. Где деньги?
Эдуард сплюнул на пол густой кровью.
– Я не знаю, – ответил Эдуард и зажмурился, ожидая нового удара.
Удара не последовало. Вместо этого снова заговорил начальник. Теперь его голос был не злобный, как минуту назад. Теперь он говорил по-доброму, почти по-отечески.
– Эдуард Владимирович, так, кажется, вас по отчеству, да? Я хочу вам кое-что объяснить. На зоне, если хочешь нормально существовать, то должен подчиняться общим законам. В этой зоне закон – это я. Не думайте, что сможете от меня что-то скрыть. Это невозможно. Если вас, зеков, в курилке четыре человека, то знайте, что один из них я. Ну так вот, я точно знаю, что Марат вам передал деньги. И я вас по-хорошему прошу, скажите, где они.
Эдуард посмотрел на нависшую над ним огромную фигуру начальника. Из-за тусклого света лампочки черт лица не было видно. Зато большой, заполняющий почти всю ширину комнаты, силуэт был хорошо различим.
– Я бы сказал, если бы знал, но...
В этот раз Эдуард заметил краем глаза, как размахивается один из надзирателей. Удар был мощный, и он принёс ужасную боль в правом ухе. Не в силах терпеть далее, Эдуард неистово заорал. Начальник вздохнул и снова сел за стол.
– Ну вот... А я хотел по-хорошему. Обыскать его!
Две пары сильных рук вытряхнули Эдуарда из его одежды, и уже через несколько секунд голый Эдуард сидел на железном стуле с привязанными к спинке руками. Его вещи были разбросаны по полу. Начальник держал в руках рисунок с изображением лошади.
– Это ты со старшины, что ли, рисовал? – пошутил начальник и, довольный, рассмеялся собственной шутке. Присутствующие тоже засмеялись. Не ржал только Конь.
– Это была моя жена, – выждав паузу, сказал Эдуард.
– Что?! Слышишь, старшина... Он твой муж! Это какой же ЗАГС зарегистрировал Коня и человека?
Комната опять взорвалась смехом.
– Можно это взять? – поинтересовался Конь, указывая на рисунок.
– Бери, дарю! – продолжая смеяться, ответил начальник и протянул рисунок.
Для Эдуарда всё произошло очень быстро. Он увидел, как старшина забрал рисунок, и прежде чем Эдуард успел что-то сказать, разорвал его в мелкие клочья. Последняя память о Лилии превратилась в мусор на грязном полу. Эдуард физически ощутил, как в нём произошла перемена... Всё, что было и происходило с ним, осталось там, до момента, когда рисунок был разорван. Исчезла единственная ниточка, которая ещё связывала заключённого Эдуарда Гусина с тем, ещё не осуждённым Эдуардом. Чистым, наивным, слабым. Теперь же не осталось ни страха, ни тревоги. В голове стучало лишь одно слово – месть. Дикое, яростное чувство мести, не оставляющее за собой даже намёка о возможных последствиях. Ах... Какая досада, что стул, на котором он сидит, намертво вмонтирован в пол. Как бы красиво смотрелась его железная спинка, превращающая в кровавое месиво эту уродливую вытянутую морду старшины.
– Старшина, – спокойно произнёс Эдуард, – я скажу тебе, где деньги.
Повисла пауза. Все с удивлением посмотрели на заключённого.
– Подойди, я скажу тебе на ушко.
– Скажи так, – ответил Конь.
– Так, во всеуслышание я не могу. Ссучусь перед мужиками. А в ушко вроде как и не говорил никому. А что сказал, останется между нами.
Конь взглянул на начальника, тот кивнул.
Старшина медленно подошёл к сидящему Эдуарду и наклонился.
– Ближе, а то ж услышат.
Конь ещё немного наклонился и подставил ухо. Ухо было мясистое с торчащими из него волосками. В следующее мгновение зубы Эдуарда с силой бульдога жадно сомкнулись на чуть подрагивающем от нетерпения ухе старшины.
– Ааа!! – что есть силы заорал Конь. – Отпусти, сука!
Эдуард почувствовал, как горячая кровь потекла по его подбородку. Конь, уперевшись руками в лицо заключённого и истошно визжа, пытался отодрать его от себя. В этот момент долговязый зек, до сих пор не проронивший ни одного слова, подскочил к ним и со всей силы ударил кулаком в лицо Эдуарда. От удара голова Эдуарда дёрнулась в сторону, и он потерял сознание. Старшина, зажав рану, из которой хлестала кровь, запрыгал по маленькой комнате. Изо рта Эдуарда торчал когда-то принадлежавший старшине орган тела.
Глава девятая
КАРЦЕР
Эдуард попытался открыть глаза, но получилось это только с левым глазом. Правый заплыл сплошной гематомой и наотрез отказывался повиноваться. Тело болело так, будто по нему пробежалось стадо быков. Эдуард попытался приподняться и тут же ощутил нестерпимо острую боль в правом боку. «Суки, ребро сломали», – подумал Эдуард и снова повалился на спину. Над собой он увидел серый облезлый потолок с тёмными пятнами плесени. Было тихо как в могиле. Толстые бетонные стены карцера не пропускали ни звука, ни тепла. Единственный источник света в виде тусклой лампы был под потолком, в углу заплесневелых стен.
– Есть кто-нибудь? – спросил у пустоты Эдуард хриплым голосом.
– Есть, – отозвалась пустота.
– Помоги, друг, – попросил Эдуард и попытался вытянуть руку.
– Вы полежите лучше. Сесть-то всё равно негде. Шконки ещё не открыли. Тут, знаете ли, всё по расписанию. Хотя бывают дни, когда и не открывают вовсе. Это же не курорт всё-таки... – затараторил голос, картавя на каждом слове. – Я так думаю, господь не посылает испытания, которые нам не по силам.
Эдуард попытался повернуть голову в сторону говорящего голоса, но тут же скорчился от боли.
– Вы лежите, лежите... Не двигайтесь.
– Холодно лежать, – выдохнул Эдуард.
– А стоять будет больно, – хмыкнул голос, – кто это вас так?
– Что? Совсем плох?
– Я видел человека, которого сбил поезд и протащил под собой до соседней станции. Когда его хоронили, он выглядел лучше, чем вы сейчас.
– Долго я был без сознания?
– Долго. Когда меня привели, вы уже лежали. Подумал, что на тот свет собрались уже. Послушал дыхание, смотрю – нет, дышите ещё... Старшина на вас очень злой был. Несколько раз в кормушку заглядывал и ругался сильно. Башка перевязана, весь в кровище – жуть, одним словом.
Эдуард услышал шаги и увидел над собой пухлое лицо в круглых очках, растянувшееся приветливой щербатой улыбкой.
– Будем знакомы? Фраерман Исаак Семёнович.
Фраерман был из тех людей, которым для жизни нужно не только дышать, но ещё и говорить. Говорил он безостановочно, с упоением, всплескивая руками, давясь словами и съедая окончания. Его монотонный жужжащий голос звучал везде, где бы он ни находился и что бы ни делал. Он говорил, когда был занят, когда отдыхал, когда ел и даже когда спал. Фраерман был историком по образованию и когда-то работал учителем в школе. С работы его выгнали, когда неуёмному еврею в очередной раз отказали в эмиграции, что вылилось в его гневную, пламенную речь перед стенами школы, обличающую прогнившую систему Страны Советов. Случился неслыханный скандал, итогом которого стал приказ об увольнении и соответствующий штамп в трудовой книжке. Так Фраерман Исаак Семёнович официально стал безработным и, чтобы как-то прокормиться, занялся филателией, а если говорить конкретней – спекуляцией марками. На этом деле его и подгребла под себя суровая, подслеповатая Фемида.
– Понимаете, это не моё место... Я не должен тут быть! – вот уже целый час без умолку тарахтел Фраерман. – У меня об этом даже фамилия говорит. Надо же было с такой фамилией попасть за решётку... Меня тут так и прозвали – «Фраер». А знаете ли вы, что слово «фраер» пришло в уголовный жаргон из идиша? Да! Представьте себе! И на идише это словно означает «свободный». Вот ведь какой смысловой абсурд получается, а? Нет, вы подумайте... Свободный Исаак Семёнович, и вдруг сидит за решёткой. Кстати, из идиша и иврита в криминальный жаргон попало много слов. Да-да, представьте себе... Например «блатной»... Это слово берёт своё начало от «die Blatte» и означает «лист бумаги», «записка»... То есть люди, устраивающиеся на работу по записке от нужного человека, по блату, так сказать. Или «шмонать»... Знаете ли вы, Эдуард, что в тюрьмах имперской России обыск в камерах было принято делать в восемь часов вечера? А «восемь» на иврите «шмоне»! Вот ведь как бывает, дорогой вы мой.
Фраерман замолчал на секунду и в ожидании эффекта от сказанного посмотрел на Эдуарда. Тот, прислонившись спиной к стене и закрыв глаза, сидел на полу. Лицо Эдуарда передёргивала мелкая дрожь, и казалось, что из всего сказанного он не услышал ни одного слова.
– Больно, да? А я ведь говорил – не вставайте. Не послушали меня... Меня никто не слушает. Вот и бригадиру говорю: у меня шабат. Понимаете? Ша-бат! Я не могу работать в субботу! А тут как назло зона с шестидневной рабочей неделей. Если с понедельника по пятницу – да ради бога! Но в субботу – шабат! Это святое! А они мне, мол, шлангуешь, в отрицалово пошёл. Я им говорю, да какой из меня отрицала? Вы посмотрите на меня... В общем, так периодически и попадаю сюда. То на сутки, то на трое. Тут, конечно, не Гагры, но привыкнуть можно. Особенно когда есть с кем перекинуться словечком. Кормят, правда, не ахти... Тут, знаете ли, бывают лётные дни и нелётные. Лётные – это когда хлеб принесут с кипятком, а в нелётные только кипяток. Но они меня не сломают! Нет! – гордо подытожил Фраерман и поправил съехавшую кипу.
– Вот вы говорите, Бог, – не унимался Фраерман, хотя Эдуард и не думал ничего говорить. – А что есть Бог? А я вам скажу... Создатель, владыка! Высшая справедливость! К нему мы взываем в своих молитвах, когда благодарим за жизнь, и к нему же обращаемся, когда просим о милости. Вы представляете себе мир без Бога? Без веры в него? Это же форменный бардак. Человек, который верует, – боится. Боится кары небесной за неблагопристойные деяния свои. Не любовь, не совесть, а именно страх является сдерживающим фактором, который не даёт человеку превратиться в животное. Да, я знаю... Вы скажете – а что же атеисты? Разве все они творят беззакония? Или, может быть, в тюрьмах не сидят верующие? Вон, каждый второй с крестом на шее ходит, а каждый пятый молится своему Аллаху. А я вам, дорогой мой, отвечу... Не каждый атеист безбожник, и не каждый молящийся – в вере. Мы слишком слабы, чтобы понять, кто мы есть... Нам этого не дано знать. Есть некие умственные рамки, которые нам никогда не суждено перейти. Да, я согласен, человек уже подчинил себе энергию атома, строит корабли и самолёты, да что там самолёты, он уже в космосе был. Но это всего лишь ничтожная толика того, что задумал и сотворил Бог!
Фраерман, возбуждённый собственным голосом, несколько раз прошёлся по карцеру. От стены до стены четыре шага вперёд – четыре назад. Обернувшись к Эдуарду, он продолжил:
– Вот представьте муравья, нет, просто представьте маленького такого, обычного муравья. Он строит огромные муравейники, в которых есть отдельные камеры, проходы, дороги, мосты, развязки. Он создаёт целый мир, который, вроде бы, слишком большой, для того чтобы этот муравей мог сам его осознать. Но он его создаёт! И ему кажется, что вот это поле, на котором стоит его муравейник, и есть вселенная, а дальше бесконечность. Но мы-то с вами знаем, что за полем дорога, за которой деревня, а ещё дальше город, море, океан, планеты, солнце. Вот о чём я хочу вам сказать. Рамки этого муравья очерчены этим полем! И ему невдомёк, что существует гораздо больший мир. Так и человек... Мы слишком ничтожны, чтобы понять всё. И есть лишь один способ не сойти с ума – это верить в Бога. В создателя, который за шесть дней создал то, что не понять нам и за тысячу тысяч лет.
Фраерман замолчал и сел рядом с Эдуардом. Наступила долгожданная тишина. И в тот момент, когда Эдуард уже было подумал, что его сосед выдохся, снова раздался картавый голос:
– Был у меня один знакомый на воле. Вы слушаете меня? Ну так вот. В бога не верил, церкви хаял, в общем, вёл отъявленный материалистический образ жизни. Как-то завязался у меня с ним очередной спор на религиозной почве, а он и говорит... Представь, что ты всю жизнь молишься, держишь мучительные посты, надеешься на милость, веришь во спасение, а когда умираешь, то просто заканчиваешься. Будто выключили свет. Чик – и всё! Нету тебя. И у тебя даже не будет возможности сказать себе «и на фига я это всё делал?». Признаюсь, стало страшно. Но тут я понял: это не друг говорит со мной, а сам дьявол нашёптывает эти слова его устами. Я вспомнил писание, к котором говорится, что верить надо непоколебимо! Наши глаза могут врать, слух обманывать, но сердце должно быть неприступной крепостью, храня и оберегая святую веру. История знает много примеров, когда кажущееся оказывалось неправдой. То же распятие! Я имею в виду образ того распятия, которое известно уже около двух тысяч лет. Вы знаете, что три гвоздя не могут удержать тело в подвешенном состоянии? По крайней мере в том положении, в котором изображают Иисуса Христа? Кстати, нигде в Евангелии нет упоминаний о гвоздях, которыми прибивали тело Спасителя к кресту. Представьте себе, дорогой вы мой, что в писаниях подробно описывается путь Христа на Лобное место, рассказывается о том, как его поили, как делили его одежду, как издевались над телом, но не было произнесено ни одного слова про сам акт прибивания! Вот такой вот парадокс! В Священном Писании мусульман вообще написано, что казнили не Иисуса, а совсем другого человека. И оказывается...
Последняя фраза, сказанная Фраерманом, заставила Эдуарда открыть глаза.
– Не Иисуса? – перебил Эдуард. – А кого тогда?
В этот момент послышался лязг открывающейся двери.
– Фраерман, на выход, – приказал надзиратель. – Пошевеливайся!
Когда за Фраерманом закрылась дверь, на Эдуарда свалилась оглушающая тишина. Тело по-прежнему болело и не хотело подчиняться, но по крайней мере было не так больно дышать. Эдуард подумал, что совершенно потерялся во времени. Сколько он тут уже? Часа три? Четыре? Сколько говорил Фраерман? Казалось, что он говорил целую вечность. В памяти после допроса не осталось ни одной зацепки, за которую можно было бы ухватиться для отсчёта времени. Так он сидел, с совершенно пустой головой, вслушиваясь в биение собственного сердца. И было что-то сладостное, успокаивающие в этой апатичной тишине. Будто его и не было тут. Будто дух его давно покинул эти стены, оставив бренное искалеченное тело остывать на грязном полу. Если смерть приходит именно так, то, наверное, не страшно и умирать. Лишь только гуляющая по всем суставам боль напоминала о том, что искра жизни ещё не покинула его искалеченное тело.
Звук открывающейся двери вернул Эдуарда в реальность. В карцер ввели Фраермана. Прижимая руки к животу, он сел в углу и стал посылать проклятия в чей-то адрес. За ним в карцер вошёл надзиратель и отомкнул закрытую в стене шконку.
– Звери... они просто звери! – заныл Фраерман, когда надзиратель ушёл. – Настоящие фашисты! И откуда таких набирают? Нет, я понимаю, что с нашим братом заключённым сюсюкаться нельзя. Я бы сам половину из них собственноручно поставил к стенке. Но меня-то за что? Бедного заключённого, который тянет свою лямку честно, на рожон не лезет, никому зла не желает. Наоборот, помогает, как может, в меру своих скромных человеческих сил. Ах, бедная моя матушка, хорошо, что не дожила до этого дня. Её сердце не выдержало бы этого. Она бы не смогла смотреть на то, как мучается её единственный, любимый сыночек.
«Мама, – подумал Эдуард. – Как долго от неё нет вестей? Последний раз месяца три назад присылала передачку с коротеньким письмецом. Как она там? Нет, не такой судьбы она хотела для меня. Всю жизнь берегла, заботилась, опекала. Единственный раз дала слабину, и вот что случилось…»
Мысль о маме почему-то вызвала чувство голода. Когда он ел в последний раз? На завтраке? А когда был завтрак? Утром? А утро? Утро было в прошлой жизни. В жизни другого Эдуарда, который ещё на что-то надеялся и пытался как-то цепляться за жизнь. Тот Эдуард Гусин умер в той комнате на допросе. Теперь в этой полутёмной зловонной камере зачиналась новая жизнь – уродливый эмбрион, вынужденный начинать свой путь во тьме человеческих пороков и жестокости.
– Эдуард... Эдуааард, – голос Фраермана в очередной раз вывел Эдуарда из полузабытья. – А вы за что сидите?
Эдуард посмотрел на Фраермана. Тот уже разлёгся на единственной шконке.
– За убийство.
– 102-я? А по вам и не скажешь. Не похожи вы на убийцу. Конечно, в жизни всякое бывает, но вы совсем не похожи на человека, который способен отнять жизнь у другого.
– А я отнял. Убил жену и её любовника. Убил и сжёг, – отрезал Эдуард.
Повисло молчание.
– А что же вы сидите на холодном полу? – вдруг вскочил Фраерман. Его голос приобрёл суетливые, подобострастные нотки. – Простудитесь ведь. Вот, ложитесь на шконку. А я постою. Ничего со мной не станется. А вам отдохнуть надо. Давайте я вам помогу. Извините, я до сих пор не поинтересовался, как вас по батюшке... Как? Владимирович? Ну вот и хорошо. Вот и ладненько. Ложитесь. Скоро и кипяточек принесут. Прорвёмся, Эдуард Владимирович. Вы лежите, лежите... Бог не даёт человеку испытаний, которые он не в состоянии выдержать.
Эдуард лёг на железный лист шконки и почувствовал, как усталость, словно многотонный грузовик, придавила его тело. Фраерман всё ещё суетился вокруг него, что-то говорил. Но с каждой секундой жужжащий голос становился тише, уходя всё дальше и дальше, становясь всё более невнятным, пока не перестал существовать совсем, превратившись в фоновый гул тяжёлого болезненного сна.
***
– Встать! Подъём! – заорал голос. – Мразь подшконочная, лежать в гробу будешь, а не тут. Я тебя собственноручно сгною в карцерах. Встать, сказал!
Голос принадлежал Коню, который стоял в дверях карцера и что есть мочи орал на всё ШИЗО.
Эдуард тяжело поднялся и прислонился к стенке.
– Отойди от стены, тварь!
Эдуард сделал шаг вперёд и почувствовал, как к горлу подступила тошнота. Он оглянулся в поисках Фраермана. Тот, вытянувшись в струнку, стоял у противоположной стены. Конь медленным шагом вплотную приблизился к Эдуарду. В нос ударил запах йода.
– Я тебе, гнида, это никогда не забуду, – дёрнул перебинтованной головой Конь. – Ты у меня до конца жизни параши лизать будешь на зонах.
С этими словами он размахнулся, но кто-то перехватил уже занесённую для удара руку:
– Не бейте, начальник. Вы посмотрите на него. На ногах еле держится. Копыта отбросит, отвечать придётся.
Голос принадлежал Фраерману, который теперь стоял рядом, заслоняя собой Эдуарда. Конь перевёл полный ненависти взгляд на перекошенное от страха лицо Фраермана.
– Я так… к слову пришлось про копыта… – промямлил Фраерман. – Не бейте, а?
Старшина заколебался. Если этот полудохлый зек окочурится тут и ещё чего доброго выяснится, что окочурился он по его вине, то проблем точно не оберёшься. Здравый смысл взял вверх, и старшина отдёрнул руку.
– Марать о тебя руки не хочется, псина! Всё равно сгинешь под какой-нибудь шконкой. Послезавтра за тобой приедут и увезут в райцентр, где предъявят обвинение по статье 111-й. А это срок до восьми лет. И я очень надеюсь, что мотать срок тебя снова отправят сюда. А если даже и не сюда, я всё равно тебе устрою весёлую жизнь в любой колонии страны. Даже если это будет на Сахалине.
Конь презрительно сплюнул на пол и, поправив китель, пошёл к выходу. Остановившись в дверях, он повернулся к Эдуарду.
– Ах да, чуть не забыл. Тебе письмо.
С этими словами он достал из кармана конверт и издевательски помахал им в воздухе.
– Отдай, сука! – выдавил из себя Эдуард.
– Но-но... Заключённый в карцере не имеет права получать письма и посылки, – растянулся в кривой улыбке Конь и обнажил кривые зубы. – Но как старому другу в виде исключения я тебе могу прочитать его. Не всё, конечно... Самое интересное. Тем более что новости очень хорошие... А хорошая новость состоит в том, что... эмм... где же это... Ах, вот. Нашёл... Мама твоя сдохла!
До Эдуарда не сразу дошёл смысл сказанного, но даже когда он понял, о чём говорит старшина, сердце его отказалось в это верить. Конь сделал паузу и наслаждался переменой в лице Эдуарда. Он впитывал каждую секунду внутренней борьбы человека с горестной реальностью.
– Врёшь, падла! Специально так говоришь! – крикнул Эдуард и сделал резкий шаг вперёд.
Тут же острая, пронизывающая грудную клетку боль сбила его с ног. Эдуард упал на колени и тяжело задышал.
– Вру, значит? Ну на... читай! Для такого случая можно и пренебречь инструкциями, – с этими словами он скомкал конверт и швырнул его на пол.
Послышался звук запираемой двери, и старшина, насвистывая какую-то весёленькую мелодию, в самом хорошем расположении духа зашагал прочь.
Повисла тишина. Фраерман забился в угол и, делая титанические усилия над собой, старался молчать. Эдуард посмотрел на скомканный клочок лежавшей на грязном бетоне бумаги. До него было полтора метра, которые казались в этот миг непроходимой бездной. Нужно было просто протянуть руку, но всё его естество противилось этому движению. Было очень страшно дотронуться до этого клочка бумаги. Что если это правда? Что если он теперь совсем один? Бороться с тревожной неизвестностью не было никаких сил. Ожидание горестного известия становилось тяжелее, чем само горе. С полным смятения сердцем Эдуард протянул руку и взял письмо. «Москва. Хорошевский район. Хоружий Виталий Викторович», – прочитал он, и в горле спёрло дыхание. Эдуард дрожащими руками раскрыл вырванный из тетради клетчатый листок.
Всего полстраницы текста. Быстрый размашистый почерк:
«Здравствуй, Эдик. Пишет тебе Хоружий Виталий.
Извини, что так получилось на суде. Сам понимаешь, всего лишь отвечал на вопросы и говорил, как есть. Ну, в общем, если виноват перед тобой, то прости.
Эдик, у меня для тебя плохие новости. Мама твоя, Любовь Александровна, скончалась. Когда была дома, мы как могли присматривали за ней, но потом, внезапно, её увезли в дом престарелых, где она довольно быстро умерла. Её похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с твоим отцом.
И ещё… не знаю, может быть, тебе это будет важно... Перед тем, как её в спешном порядке отвезли в дом престарелых, она просила, чтобы мы нашли какого-то там Вадима Коровина. За день до этого к ней заходил ваш таксист. Не помню, как его звали. Высокий, широколицый, с родинкой на подбородке. После его визита она стала сама не своя. Звонила тому генералу. Я постеснялся её расспрашивать.
P.S. Твоя машина у меня во дворе. Вот, вроде, и всё, что хотел сказать.
Береги себя».
Письмо было написано три месяца назад. Целых три долгих месяца оно шло, чтобы сделать дальнейшую жизнь Эдуарда совершенно бессмысленной. Он снова взглянул на конверт. В голову пришла совершенно дикая мысль, что, может быть, письмо пришло не по адресу. Может быть, где-то есть другой Эдик, мать которого зовут Любовь Александровна? Но нет, письмо было адресовано ему. На конверте мелким почерком был выведен номер колонии. Взгляд машинально упал на марку, на которой были изображены два медведя, восседавшие на красных мотоциклах. Память тут же отозвалась, казалось бы, давно забытой историей из детства. Сейчас она представлялась Эдуарду в мельчайших деталях:
«Была весна. Городские клумбы утопали в разноцветных тюльпанах, а величественные липы Садового кольца уже вовсю зеленели свежей листвой. Стайка воробьёв сварливо суетилась у лужи, в которой отражались большие, достающие до самого неба дома. Пятилетний мальчик, держась за палец матери, щурился на ярком солнце. Они шли в детский магазин покупать велосипед. Давняя, выстраданная хорошим поведением мечта вот-вот должна была осуществиться. Детский магазин казался большим и удивительным. Мальчик, широко раскрыв глаза, смотрел на разноцветные мячи, блестящие машинки, пушистых зайцев и розовых медведей. Они выбрали велосипед – самый красивый и блестящий из всех велосипедов на земле, и мама пошла расплачиваться. В этот момент мальчик заметил на полке красный заводной мотоцикл. Игрушка тут же приковала взгляд золотыми спицами, чёрными дужками шин и маленькой люлькой. Недолго думая, Эдик прихватил её с полки и пошёл к маме. Только отойдя на приличное расстояние от магазина, Эдик вытащил из-под куртки своё сокровище. На резонный вопрос „откуда взял“ ребёнок честно ответил, что из магазина. Что эта игрушка теперь его, потому что он так хочет. В тот день маленький Эдик остался и без мотоцикла, и без велосипеда».
Мама... теперь её нет. И виноват в этом он – Эдуард. Прямотой и бескомпромиссностью бьющей кувалды Эдуарду пришла мысль, что теперь на его совести не две, а три жизни. Как так получилось, что он собственными руками загубил не только свою, но и отнял три чужие жизни? Это не он! Нет, такого не могло случиться по его вине. Это предписанная свыше судьба, словно в сильном горном потоке, пронесла его в своих бурлящих водах, без сожаления ударяя о скалы, и вышвырнула на берег в этой тёмной камере. Эта мысль спасала от чувства вины, но в то же время делала всё вокруг совершенно бессмысленным. Зачем бороться, если ничего нельзя изменить? И зачем пытаться менять, если всё предрешено? Кто придумал этот лабиринт, в котором много ходов, но вход и выход всегда один? Вопросы душили отсутствием ответов. «Бог не посылает нам испытаний, которые бы мы не смогли выдержать», – вспомнил Эдуард слова Фраермана. Может быть, и так... Но иногда Он перегибает палку.
Эдуард вновь перечитал письмо. Взгляд зацепился за фразу о каком-то Вадиме. Высокого водителя с родинкой на подбородке Эдуард узнал сразу. Это был Лёша – таксист, которого мама всегда вызывала, когда нужно было выехать в город по делам. Но что он мог такое сказать маме и как во всём этом замешан какой-то Вадим, Эдуард так и не понял.
– Примите мои искренние соболезнования, Эдуард Владимирович, – послышалось из угла. – Все мы под Богом ходим и в конце к Нему и придём. Главное сейчас не молчать. Выговоритесь, вот увидите, станет легче. Помню, когда моя матушка померла, я места себе не находил. И было даже такое...
– Заткнись, Фраер! – за всё время в первый раз оборвал его Эдуард. – Просто замолчи. Иначе мне придётся вырвать твой язык.
Следующий день прошёл в относительной тишине. Фраерман старался разговаривать мало, а если и говорил, то обращался не к Эдуарду, а к воображаемому собеседнику. Он был в приподнятом духе, потому что завтра утром его срок в карцере подходил к концу. К вечеру третьего дня за Эдуардом должна была приехать машина. Эдуард понимал, что, возможно, он уже никогда не вернётся в эти стены, и ему как-то нужно было придумать, как передать Марату весточку о месте, где он спрятал деньги. Доверять Фраерману он не мог, да и если бы доверился, было ясно, что тот расколется на первом же допросе. Времени на раздумья оставалось мало. Нужно было на что-то решаться.
– Фраер, ты Уважаемого знаешь из пятого отряда?
– Знаю, – радостно заявил тот. – Он одному из наших помог составить кассационку. Уважаемый – человек с большим сердцем. Таких мало на зоне. В основном одни гниды и подонки зону топчут. Однажды...
– Да подожди ты. Не заводись. Я дело тебе хочу доверить.
Фраерман, весь превратившись в слух, с заговорщическим видом подсел ближе.
– Что за дело?
– Тебе кое-что нужно передать ему на словах.
– Что? – перейдя на шёпот, спросил Фраерман.
– Только смотри, Фраер. Если не передашь, я сюда из любой зоны скину маляву. И тогда Уважаемый с тебя спросит.
Фраерман сглотнул. Авторитет Уважаемого был велик, помочь ему было честью, а вот вызвать его гнев совершенно не хотелось.
– Передам всё что скажете, – шёпотом заверил Фраерман.
– Передай ему следующее: сила не в волосах, а в тёплой одежде.
Фраерман непонимающе уставился на Эдуарда.
– Но... что это значит?
– Не твоего ума дела. Передай это ему дословно.
– Ясно. Передать дословно. «Сила не в волосах, а в одежде»
– В тёплой одежде, Фраер, в тёплой! Повтори.
– Сила не в волосах, а в тёплой одежде.
– Ну вот и хорошо.
Фраерман, выходя из камеры, украдкой бросил на Эдуарда многозначительный взгляд, по которому можно было подумать, что он лучше унесёт с собой в могилу их тайну, чем расколется на допросе. Через пять минут Фраерман уже сидел в кабинете замначальника по воспитательной части:
– ...да, так и сказал: «Передай Марату, что сила не в волосах, а в тёплой одежде».
– Чушь какая-то. Что это значит?
– Не знаю, начальник. Он не объяснил. Мне вообще кажется, что он того... спятил после известия о смерти матери. У него даже взгляд изменился... Стал будто мёртвый. И вроде на тебя смотрит, а кажется, что в пустоту... Холодный такой взгляд, как у статуи.
– Фраер, ты что тут мне зубы заговариваешь? Ты должен был узнать у него, где тот спрятал деньги. И за три дня ты приносишь мне это? Волосы и тёплая одежда?!
– Не сердитесь, начальник... Как же я у него что-то узнаю, если он все эти дни молчал как рыба? Я не понимаю, как вообще возможно столько молчать? Это же с ума сойти можно! Стоит столбом, глаза в пол, рот на замок и не живой будто. Я к нему «Эдуард Владимирович, сядьте, поговорим по душам... Высказаться вам нужно... Нельзя в себе горе держать», а он не слышит меня. Страшно было с ним. Казалось, вот-вот набросится на меня и перегрызёт горло.
Повисло молчание.
– Мне уже можно идти? – заёрзал на стуле Фраерман, с надеждой поглядывая на выход.
– Иди, – ответил начальник, думая о чём-то своём. – Подожди. Когда передашь его слова Уважаемому, проследи его реакцию. Может, он проговорится.
В тот же вечер Фраерман зашёл в барак пятого отряда и разыскал Марата. Тот как обычно сидел за книгой. Его лицо и лоб были в ссадинах и синяках.
– Уважаемый, я к вам по поручению нашего общего знакомого, – понизив голос, обратился Фраерман.
– Общего знакомого? Интересно, что это за общий знакомый у нас такой?
– Я от Эдуарда Владимировича.
– Ну, присаживайся, коли так.
– Эдуард Владимирович просил передать вам... – Фраерман сделал театральную паузу, – что сила не в волосах, а в тёплой одежде.
На лице Марата отобразилось удивление.
– Хм... и это всё?
– Да, всё. Вот такая абракадабра. Сам не понимаю, что бы это значило. А вы поняли?
– Я понял только то, что на допросе, кажется, его слишком сильно били по голове.
– То есть... как? Совсем ничего не понятно? – переспросил Фраерман и заглянул в глаза Марату.
– А что я должен был понять из этой чепухи?
Повисло молчание. Марат снова взял книгу и углубился в чтение.
– Ну, я пойду, Уважаемый?
– А ты ещё здесь?
– Всё, всё... Не смею более тревожить.
Когда Фраерман вышел из барака, Марат отложил книгу и взглянул в окно. Там он заметил Фраермана, который трусцой бежал в сторону администрации колонии.
«Ну, Гусин... Ну, хитрец! – усмехнулся про себя Марат. – Это ж надо было так придумать! Сила не в волосах...»
– Самсонов! – крикнул он в сторону одного из заключённых. – Поди-ка сюда! И бушлат свой прихвати.
***
«Интересно, сколько дадут, три или четыре года?» – думал Эдуард, когда автозак выруливал к районному суду, где должны были рассматривать его дело. Да и какая теперь разница? На воле его никто не ждал, желания что-то менять не было, а сил хватало только на то, чтобы жить в тех рамках, которые ему очертила чья-то невидимая жестокая рука. Эдуард внутренне уже смирился с тем, что, возможно, остаток жизни проведёт в скитаниях по колониям. А если и выйдет когда-нибудь на волю, то зачем нужна будет ему, уже старику, такая свобода? Его душа была похожа на пустынный грязный переулок, по которому гулял ветер смятения. У каждого за решёткой должна быть надежда. Тёплая, яркая, придающая силы и смысл для дальнейшей борьбы за существование. У некоторых это семья, дети, неоконченная работа, месть, наконец... У Эдуарда не было ни детей, ни работы, ни родственников. Любить или ненавидеть было совершенно некого. Оставалась только злоба... Злоба на умершую жену. Ведь, если поразмыслить трезво, то ничего этого и не случилось бы, если бы не Лилия. Она, словно астероид, столкнувшийся с Землёй, сгорела сама, но навсегда изменила облик планеты.
На суде весёлая женщина в мантии судьи стукнула молотком и, мило улыбаясь, отмерила Эдуарду пять лет к его оставшимся восьми, отправив отбывать срок в колонию особого режима.
ЧАСТЬ III
Глава первая
НОВЫЙ ПОВОРОТ
Ночной поезд, пыхтя и грохоча сцепками, медленно отъезжал от станции. Летнее небо разрезал Млечный путь, тёплый летний ветерок тихо перешёптывался с листвой на молодых деревьях. Немногочисленные пассажиры уже давно покинули перрон, забрав с собой в памяти рассказы попутчиков и новые знакомства. Под козырьком станции, низко надвинув на глаза помятую кепку, с вещмешком на плече, стоял мужчина. Закрыв глаза, он жадно вдыхал воздух, наполненный ароматами ночных цветов и стрекотанием сверчков. Худое, болезненное лицо было прорезано глубокими морщинами. Мужчина открыл глаза и осмотрелся. Неподалёку было припарковано такси. Чуть прихрамывая на одну ногу, мужчина направился к машине. Вот уже три года как шло третье тысячелетие.
– Вечер добрый, – поздоровался Эдуард.
Седой таксист, задремавший было в салоне машины, открыл глаза и взглянул на Эдуарда.
– Сколько до Хорошево?
– Четыреста рублей.
– А чего так дорого?
– Ну, если не нравится, ищи другую машину, – буркнул шофёр и, закрыв глаза, откинулся на спинку сидения.
Эдуард оглянулся в поисках другого транспортного средства, но вокруг не было ни души.
– Ладно, поехали.
Машина тронулась с места и, оставляя за собой дорожную пыль, направилась в Хорошево.
– Поздравляю, – первым нарушил молчание водитель.
– С чем?
– С освобождением.
– А ты откуда знаешь?
– Вы, откинувшиеся зеки, все на одно лицо.
– Ну, спасибо. А не боязно зека везти?
– А чего бояться-то? Я не в том возрасте, чтоб бояться, – ответил водитель и незаметным движением расстегнул ремень безопастности.
Когда машина проезжала родной посёлок, Эдуард, высунувшись из окна, с интересом разглядывал большие коттеджи.
– Слушай, а ты не мог ошибиться? Это точно Хорошево?
– Хорошево, а что ещё? А ты что, думал застать посёлок таким же, каким оставил? – усмехнулся водитель. – Тут уже новые хозяева жизни живут. Смотри, какие домища отгрохали себе. Дворцы, а не дома. На хрена им такие? Для жизни-то и трёх комнат вполне хватает. А они строят замки, в добрую половину комнат которых и за всю жизнь ни разу не зайдут. В этих местах, знаешь, сколько сотка земли стоит? Мне и за две жизни столько не собрать. Ну, если твой дом где-то тут, то тебе повезло, дружище.
Они проезжали место у реки, где пятнадцать лет назад милиция нашла машину Эдуарда.
– Стой, стой! Погоди.
Водитель резко притормозил:
– Что такое?
– Погодь. Я здесь выйду.
Машина остановилась, и Эдуард вышел из автомобиля. За ним последовал шофёр. Мрак ночи скрывал лужайку и обрыв. Пятнадцать лет прошло, но Эдуард воскресил в памяти то снежное утро, когда его выдернули из заваленной снегом машины.
– Ты езжай. Отсюда я дойду сам, – сказал Эдуард.
– Найдёшь?
– Найду. Я знаю эти места.
– Ну, смотри сам, – буркнул шофёр и завёл мотор.
Москва-река дышала прохладой и блестела отражением круглой, словно блин, луны. Далёкая кукушка отмеривала кому-то годы жизни. Эдуард не спеша брёл по просёлочной дороге и с наслаждением вдыхал терпкий воздух летней ночи. Даже боль в колене притупилась, не мешая пьянящему чувству свободы.
Вот и угол, за которым должен быть его дом. Но вместо белых ворот, которые он так часто вспоминал, Эдуард упёрся в высокую стену с железным дверями. Несколько оторопев, он всё же дёрнул за ручку. Дверь не поддавалась. Тут же его осветил яркий свет прожектора, бьющего со смотровой вышки. Она была расположена справа от входа и в темноте не сразу бросалась в глаза. Эдуарду на мгновение показалось, что он всё ещё в колонии.
– Чего надо? – спросил грубый голос с вышки.
Простой вопрос озадачил Эдуарда, так что он несколько замешкался с ответом. Наверное, он перепутал дом, подумал Эдуард. Но нет... Вот поворот, дальше дом соседей, фонарный столб между ними. Эдуард, ничего не понимая, отошёл от дверей, осмотрелся и снова вернулся.
– Ты кто? – задал Эдуард первый попавшийся вопрос в сторону вышки.
– Архангел Михаил! – ответили сверху.
– Что ты делаешь в моём доме?
– В твоём? – с вышки послышался смех. – Бухой, что ли? Или наширялся чем-то? Вали отсюда, пока на ногах.
– Слышь, Архангел... Я не очень понимаю, что здесь происходит, но кажется, вы что-то попутали. Это мой дом.
– Папаша, у тебя три секунды, чтобы убраться от сюда. В противном случае тебя унесут.
Эдуард снова дёрнул дверь.
– Откройте дверь! Эй…
Сверху послышалось жужжание ручной рации. Через секунду дверь открылась, и на улицу вышли два охранника в чёрной специальной одежде. Один из них – огромный детина под два метра ростом – вплотную подошёл к Эдуарду.
– Ты чё, не понял? Сказано же, вали.
– Ребята вот адрес, вот мои документы. Здесь не может быть ошибки.
– Ясно с ним всё... Гаси его, Вован.
И тут же сильный короткий удар под дых свалил его с ног. Тем временем из дверей вывели собаку. Та, почувствовав чужака, залилась злым лаем.
– Что же вы делаете, ребята? – поднявшись с земли и пытаясь отдышаться, сказал Эдуард. – Я пришёл к себе домой.
– Или ты уходишь, или я отпускаю поводок.
– Ребята, вы не понимаете…
Охранник ослабил поводок, и собака, почувствовав свободу, ринулась на чужака. Острые зубы клацнули в паре сантиметров от запястья Эдуарда. Непрошеный гость в страхе попятился назад, споткнулся, упал, но, быстро поднявшись, побежал прочь. Отбежав на безопасное расстояние, Эдуард остановился, чтоб перевести дыхание. Совершенно обескураженный произошедшим, он теперь стоял и потерянным взглядом смотрел на свой бывший дом.
«Что за чёрт? – думал Эдуард. – Ничего не понимаю. Кто они такие? Что вообще происходит?»
Имя Виталика, соседа Эдуарда, всплыло в мыслях само собой. Эдуард посмотрел в сторону их дома. Свет в окне не горел, но делать было нечего. Придётся будить. К радости Эдуарда, дом Хоружего оставался таким же, как и прежде. Всё тот же дощатый забор, те же окна. Он подошёл к двери и несколько раз нажал на звонок. В окне второго этажа зажёгся свет. Послышались шаги и мальчишеский заспанный голос спросил из-за двери:
– Кто?
– Прошу прощения, что разбудил. Это Гусин Эдуард – сосед ваш.
– Нету у нас таких соседей, – ответил мальчик.
– А Виталик дома?
– Умер папка.
– Как умер? Когда? – спросил ошеломлённый Эдуард.
– В позапрошлом году.
Повисла пауза.
– Пацан, а мама дома?
– Дома.
– Передай ей, что Эдуард пришёл. Сын Любови Александровны. Сосед ваш, – а про себя добавил «бывший».
– Ладно, подождите пока. Я передам.
Минут пять ничего не происходило. Эдуард хотел уже снова нажать на звонок, но услышал шаркающие по лестнице шаги.
– Эдик, это ты?
– Я, – отозвался Эдуард; от знакомого голоса на сердце отлегло.
– Но ты же сидишь вроде.
– Я освободился недавно. Открой дверь, поговорить надо.
За дверью колебались. Было видно, что женщина боится. Наконец дверь открылась, но лишь на несколько сантиметров. Из образовавшейся щели просунулся конверт.
– Вот, возьми. Это Витька просил передать тебе. Он говорил, что ты придёшь.
– Что это?
– Это деньги, за машину. Он продал её на запчасти, так как та стала ржаветь. Он очень переживал из-за того, что ему пришлось выступать против тебя в суде. Совсем совесть его за тебя заела. Эти деньги я для тебя хранила, по его просьбе.
Эдуард взял конверт и сунул в карман.
– Мне очень жаль... О чего он умер?..
– Инсульт.
Эдуард вздохнул:
– Послушай, кто эти люди в моём доме?
– Я не знаю, Эдик. Они с нами не общаются. Приезжают и уезжают в тонированных автомобилях. Я даже ни разу не видела владельца.
– А когда они въехали?
– Сразу после смерти Любови Александровны. Я думала, ты знаешь.
– Я не знал... Откуда было мне знать? Мне же двенадцать лет писем не приходило. Не от кого было.
Повисло тяжёлое молчание.
– Прости, Эдик, но мне пора.
– Да, понимаю. Был рад встрече.
– Береги себя.
С этими словами дверь захлопнулась и послышались быстро удаляющиеся шаги.
Эдуард стоял как вкопанный и смотрел на закрытую дверь. Единственные знакомые люди, и те отказались его впустить. Миллионы вопросов в голове взрывались, словно канонада фейерверков. Они рождались и исчезали, заменяя и съедая друг друга с такой частотой, что даже не успевали оседать в памяти. Не было никакой возможности ухватиться хотя бы за один, чтоб получить ответ. Погружённый в тяжёлые мысли, Эдуард брёл по пустынному, ещё не проснувшемуся посёлку. Иногда он останавливался и, будто бы опомнившись, начинал оглядываться, пытаясь понять своё местонахождение. Всё, что его окружало, было чуждым и неродным. Милые душе лужайки, на которых он с друзьями гонял мяч, теперь занимали большие каменные магазины с широкими витринами. Вот здесь была большая липа, под которой собирались бабушки, а теперь стоит автомастерская. Реальность, наотмашь хлеставшая по памяти, выбивала из неё последние крохи хранившихся образов. И всё-таки, может, шофёр ошибся? Может, он привёз Эдуарда не туда? Тусклый свет надежды, родившись, тут же погас. Дорога – она оставалась такой же, как в детстве. Эдуард представил, как сейчас увидит торчащую длинную жердь с надписью, сигнализирующей автомобилистам об угрозе. И действительно: из ямы торчала труба с табличкой, на которой было написано «Осторожно. Объезд». Столько лет прошло, всё перестроили до неузнаваемости, но нет в России такой силы, которая смогла бы справиться с бедой под названием «дороги». На горизонте мрак ночи уже подёрнулся голубым заревом – начинался новый день.
Когда Эдуард дошёл до станции, там уже было не так пустынно, как ночью. Люди подходили за билетами к кассе, возле которой уже собралась небольшая очередь. Появились бабульки с корзинками семечек и пирожков. На лестнице собралась шумная стайка молодёжи.
Знакомое такси стояло на том же месте, где его несколько часов назад встретил Эдуард. Шофёр так крепко спал, что пришлось несколько раз постучать по стеклу, чтобы разбудить.
– Опять ты?
– Я.
– Что? Не нашёл дом?
– Нашёл, но он, оказывается, теперь не мой, – невесело ответил Эдуард.
– Как так? – не понял водитель.
– А вот так. Засадили за решётку и отобрали дом.
– М-да... – седой таксист закурил сигарету. – И что планируешь теперь?
– Не знаю пока... – и чуть подумав, спросил: – Где тут поблизости недорогая гостиница?
Спустя двадцать минут, поплутав по утренним улицам, машина остановилась у небольшой гостиницы. Всю дорогу Эдуард обдумывал сложившуюся ситуацию и не проронил больше ни слова. Он расплатился и, прежде чем выйти из машины, спросил:
– Слушай, ты, кажется, говорил, что давно работаешь таксистом?
– Ну... – кивнул таксист.
– Где тут ближайший таксомоторный парк был? Не помнишь?
– Почему был? Он и сейчас есть. Все близлежащие районы обслуживал четырнадцатый таксопарк. Тут недалеко, по улице Ермакова Роща,– он махнул куда-то вперёд.
– А ты случайно не там работал?
– Нет, я работал в шестом, – с гордостью произнёс таксист. – В центре.
Заплатив за самый дешёвый номер, Эдуард не раздеваясь плюхнулся на жёсткую, ничем не отличающуюся от тюремных нар кровать и тут же уснул. Когда он проснулся, было уже далеко за полдень. В желудке нещадно сосало от голода.
«Первым делом нужно разыскать этого Алексея, – думал Эдуард, жуя купленный в гостиничном буфете пирожок. – Он должен мне рассказать всё, что ему известно».
В колонии у Эдуарда было много времени, чтобы обдумать письмо, присланное Хоружим. И чем больше он думал о нём, чем больше складывал факты, тем больше понимал, что разговор Алексея с матерью и её скоропостижная смерть – это звенья одной цепи. И чтобы разгадать эту головоломку, нужно было потянуть за ниточку по имени Алексей. Всё усложнялось тем, что Эдуард не помнил его фамилии. Высокий, широколицый, с родинкой на подбородке, лет, наверное, уже сорока, водитель, которого зовут Алексей, – вот всё, на что он мог рассчитывать в поисках человека, которого толком и не знал. Эдуард помнил, что Любовь Александровна, как человек консервативный, при необходимости вызывала только Лёшку – как она его ласково называла. По тому, что машина приезжала очень быстро, Эдуард прикинул, что таксомоторный парк находился недалеко от их дома. Теперь выяснилось, что это был четырнадцатый таксопарк и он действительно находился всего в двадцати минутах езды от посёлка. Поспрашивав прохожих, Эдуард довольно быстро нашёл нужный ему четырнадцатый таксомоторный парк. Это было длинное серое здание с неброской вывеской. У входа курили несколько мужчин.
– Здорово, мужики, – обратился Эдуард. – Не подскажете, Алексей здесь работает? Высокий такой, широколицый... С родинкой на подбородке.
– С родинкой? – отозвался один из куривших. – Вы имеете в виду Алексея Ивановича?
– Я не знаю его фамилии и отчества.
– Ну, по описанию похож на нашего зама.
– Зама? – удивился Эдуард.
– Да, заместителя директора. Если это он, то поднимись на второй этаж. Справа его кабинет.
«Попытка – не пытка», – думал Эдуард, стучась в приёмный кабинет заместителя директора с табличкой «Корнеев Алексей Иванович».
– Алексей Иванович занят, – отчеканила секретарша, брезгливо косясь на Эдуарда.
– Скажите, что это Эдуард Гусин пришёл по очень важному делу. Сын Любови Александровны Гусиной. Он должен помнить меня.
– Мужчина, тут все ходят по очень важным делам. Не вы первый, не вы последний.
– Ну, сестрица… пожалуйста, – взмолился Эдуард. – Вы просто назовите моё имя. И если он меня не вспомнит, то я пойду.
Девушка задумалась.
– Ну, хорошо. Я скажу ему.
Если это не тот Алексей, то так даже будет лучше. Можно будет сразу уйти. Выглядело бы глупо – зайти в кабинет непонятно к кому, даже не зная, тот ли это человек.
– Алексей Иванович, – тем временем говорила в трубку секретарша. – К вам посетитель. Он говорит, что его зовут Эдуард Гусин.
Эдуард следил за реакцией секретарши. На том конце провода, видимо, задумались, потому что несколько секунд ничего не происходило. Наконец из трубки послышался мужской голос. Секретарша положила трубку и кивнула в сторону двери.
Как только Гусин переступил порог и взглянул на замдиректора, тут же все сомнения отпали. Это был тот самый Алексей, которого помнил Эдуард, – высокий мужчина с родинкой на подбородке, но уже располневший и облысевший.
– Здравствуйте, – первым протянул руку Алексей. – Присаживайтесь.
– Здравствуйте.
– Да, давненько мы не виделись. Как ваше здоровье?
– Колено пошаливает, но, в общем, не жалуюсь. У вас как? Смотрю, сменили руль на кресло начальника.
– Давно уже. Как только наш таксопарк приватизировали, дела стали налаживаться. Вы-то меня помнили ещё молодым и красивым, – заулыбался Алексей. – Хоть мы и не общались, но с вами я был заочно знаком. Ваша мама, Любовь... эмм...
– Александровна...
– Да, Любовь Александровна... много о вас рассказывала. Кстати, как она?
– Она умерла тринадцать лет назад.
– Надо же! А я и не знал… – искренне удивился Алексей. – Горе-то какое! Добрейшей души был человек. А я-то недоумевал, почему это вдруг звонки прекратились? Думал, может обидел её чем? Потом всё закрутилось, завертелось… Какой это год был? Ах да... начало девяностых. Тогда времена такие настали, что думать получалось только о себе. Примите мои соболезнования.
– Спасибо. Я, собственно, по этому поводу и пришёл. Мне кое-что нужно прояснить по поводу моей матери.
– И что же вы хотите узнать?
Эдуард достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги и бережно раскрыл его на столе перед Алексеем.
– Это письмо мне написал мой сосед тринадцать лет тому назад, когда я уже два года как был в колонии. В нём говорится, что вы заходили к моей маме и рассказали про какого-то Вадима Коровина. Ваш рассказ очень взволновал её, потому что он был как-то связан со мной. После вашего визита её быстро увезли в дом престарелых – как мне кажется, чтобы спрятать от всех. Там она вскоре и умерла.
Алексей быстро пробежал глазами письмо. В его взгляде читалась неподдельное недоумение.
– Ничего не понимаю... – наконец произнёс Алексей. – Я даже представить себе не мог, что у того разговора будут такие печальные последствия. Я просто сказал ей, что мне стало известны кое-какие детали вашего дела. Это как раз была наша последняя встреча. Именно после неё она и перестала звонить.
– Что вы тогда ей сказали? Можете мне рассказать?
– Да, конечно... Как я уже говорил, мы с вами не были близко знакомы, но Любовь Александровна, царствие ей небесное, очень много рассказывала о вас. Когда случилась эта история и вас арестовали, то на все суды возил её я. И так получалось, что хотя на заседаниях суда я не присутствовал, однако со слов Любови Александровны знал всё, о чём там говорили. После приговора, когда вы попали в колонию, Любовь Александровна совсем поникла. Тогда и появился тот человек в погонах – не помню, как его звали.... Вот с того момента мне дали понять, что больше в моих услугах Любовь Александровна не нуждается. Ей приставили какого-то водителя, и наше с ней общение прекратилось. Очень редко она сама звонила и просила что-нибудь привезти. В основном она уже ездила с водителем, которого назначил тот человек. Но года через два после этого я услышал историю, связанную с вами.
– Что за история? – всё больше волнуясь, спросил Эдуард.
– Помню, вызвали меня на четвёртую линию Хорошевского, забрать одну семью. Времена тогда трудные были, так что я подсуетился: договорился с диспетчером, чтобы скидывал все заказы на Серебряный Бор только мне. Народ там всегда был зажиточный – чаевые неплохие оставлял. Ну а я с чаевых половину диспетчеру отстёгивал...
1989-й год. Серебряный Бор
Солнце уже клонилось к закату, освещая мягким оранжевым цветом рваные облака. Редкие пожелтевшие листья из последних сил держались на уже почти голых ветках, над которыми, высоко в небе, выстроившись в клин, летели журавли.
У дощатого забора с густым можжевельником стояли подгулявшие гости: мужчина со съехавшим на бок галстуком и его жена со спящим на руках пухлым карапузом.
– Такси до «Академической» вызывали? – спросил таксист, высунувшись из окна подъехавшей машины.
– А что так рано? – отозвался мужчина. – Всего лишь сорок минут ждём.
– В пробке застрял, – соврал шофёр.
– На сорок минут? Где ты видел в Москве пробки на сорок минут? Это же Москва! Здесь такого никогда не может быть! – Опоздание такси не испортило прекрасного настроения мужчины, так что закончил свою мысль он, уже сидя на переднем сиденье, отрывком из песни: – «С друзьями ты не гулял по широким проспеееектам, значит ты не видааал лучший город землииии..»
– Ну всё, всё, – отозвалась жена с заднего сиденья. – Распелся опять.
Машина тронулась и мягко покатила между высоких сосен.
– Да, места здесь, конечно, красивые. Может, продать, к чёртовой бабушке, эту коробку на «Академической» и переехать сюда, а?
– Вот ещё, – возразил женский голос. – Ни газа, ни канализации. Как в дореволюционной России живут.
– Эх, не можешь ты, моя милая, с природой воссоединиться.
– Ага, я бы посмотрела на тебя, как зимой ты выбегал бы в туалет на улицу. Вот тебе природа твоя и отморозила бы кое-что.
Машина повернула на Таманскую улицу и, обогнав троллейбус, прибавила ходу.
– Смотри, смотри, Любань, помнишь это место? – вдруг встрепенулся мужчина указывая в сторону Москвы-реки.
– Что за место? – не поняла женщина.
– Ну, как это ты не помнишь? Это же то самое место, на котором мы застряли в ту ночь, когда у тебя начались роды. Вспомнила?
– А-а-а... Ты про это? Так это разве забудешь? – заулыбалась женщина смотря на мирно спящего на руках ребёнка.
– Ой, и натерпелись мы тогда… Никогда не забуду, как ты орала.
– А что за история? – к радости пассажира, наконец-то поинтересовался Алексей.
– Два года назад, перед самым Новым годом, друзья нас пригласили отмечать праздник. Те же самые, от которых мы сейчас едем. Любка тогда у меня на сносях была. По подсчётам врачей, должна была в конце января разродиться. А тут, за месяц до срока, ночью начались схватки. Орёт благим матом, мол, рожаю. Посадил её в машину... у меня жигулёнок был, продал потом... Отъехал чуток, гляжу… А бензина-то нет! Как я тогда мог не подумать о бензине, ума не приложу. Что делать – не знаю! До заправки далеко, ночь, снег стеной валит, а на дороге ни одной живой души. Перепугался я тогда страшно. Бегал кругами, машины высматривал. И когда уже стал думать, что придётся принимать роды у жены самому, решил посмотреть у реки. Думаю, авось рыбак какой на машине подъехал. И правда, у реки, уже вся заваленная снегом, стояла старенькая «Победа». Подбегаю к ней, а в ней мужик спит. Стал стучать, чуть окно не выбил, а хозяин так и не проснулся. Думаю: пьяный, не добужусь, а делать что-то надо…
– В котором часу это было? – спросил Алексей, напрягшись.
– А? В котором часу? Да хрен его знает. Ночь была. Ну где-то в час или два. Ну так вот… Бегу я к своей машине, беру шланг и канистру и отливаю у «Победы» литров 10 бензина. Залил я, короче, в свою бензин, но тут совесть стала мучить. Ну, я побежал снова к «Победе» и…
2003-й год. Кабинет Алексея
– ... засунул под дворники три рубля, – закончил за Алексея рассказ Эдуард.
Повисло молчание. Эдуард почувствовал, как у него закружилась голова. Сердце бешено колотилось, вот-вот готовое выпрыгнуть из груди. Суд, состоявшийся пятнадцать лет назад, в мельчайших подробностях, словно в слайдах, пробежал перед глазами Эдуарда.
Десять литров бензина... Это не он поджигал.
– Ну да, всё верно, – подытожил Алексей.
Комната крутилась перед глазами Эдуарда, словно он был на карусели. Не отдавая себя отчёта, он встал и на ватных ногах прошёлся по кабинету.
– Его звали Вадим Коровин. Он жил на «Академической», около «генеральского» дома. По крайней мере, там они вышли из машины, – предвидя вопросы объяснил Алексей. – Я рассказал ему всё о вас. Вы бы видели его в тот момент. На нём лица не было. Он оставил свой номер телефона, обещал сделать всё, чтобы прокуратура пересмотрела дело, но так и исчез. Ну, я поехал и рассказал всё твоей маме. Мне казалось, что будет правильно, если она узнает. После того разговора с Любовью Александровной мне звонила какая-то женщина, представилась вашим адвокатом. Лена – так, кажется, её звали.
– Лена? – вышел из прострации Эдуард. – Кравцова?
– Не помню, если честно. Она меня обо всём подробно расспросила, взяла номер телефона, который оставил тот мужик. А что там дальше было, уже не знаю. Да и, если честно, тогда пошла такая чехарда в стране, что мама не горюй… Уж простите, но все мысли были только о том, как бы семью прокормить.
«Это не я! Я не убивал!» – думал Эдуард, как ребёнок, вприпрыжку выбегая из таксопарка.
Боже, как упоительна была эта мысль. Он повторял её без остановки, словно заклинание! Осознание того, что он не убийца, окрыляло. Чувство вины, пятнадцать лет тяжеленным камнем давившее на плечи и стальными оковами сковывавшее грудь, растаяло в одно сказочное мгновение. Эдуард чувствовал себя только что родившимся младенцем, бабочкой, скинувшей с себя безобразный облик гусеницы. Эдуард по-настоящему почувствовал себя свободным человеком. Свободным не только от каменной тюрьмы, но и от тюрьмы совести.
Душевное возрождение повлекло за собой и физические перемены в облике Эдуарда. Плечи расправились, боль в ноге и вовсе перестала ощущаться, походка приобрела моложавый задор. В это мгновение не было на свете человека счастливее, чем он. Но вдруг вопрос, который он отогнал в первую минуту эйфории, вновь омрачил радостные мысли: если убивал не он, то тогда кто? По чьей вине была исковеркана, испепелена его жизнь? За чьё преступление он был вынужден скитаться по зонам, лишённый простых радостей жизни?
Глава вторая
ЗЕЛЁНЫЙ ХАЛАТ В БЕЛЫЙ ГОРОШЕК
«Нужно было что-то делать, – думал Эдуард, бреясь перед зеркалом в гостиничном номере. – Этот рассказ мог бы пролить свет на события той проклятой ночи, которая круто изменила мою жизнь… – Холодные брызги воды остудили пылающие огнём щёки. – Если бы мне только найти того, кто это сделал. Но прошло столько лет. Иди попробуй теперь разберись, что да как там было. Но я не убийца! Я знал это! Я всегда это чувствовал. – Жёсткое, щетинистое полотенце больше корябало, чем вытирало лицо. – А дом? Кто там живёт? Это получается, что меня вышвырнули на улицу, как в той сказке про лисицу и зайца... Был у неё дом ледяной, а у зайца лубяной...» – Лосьон после бритья больно защипал подбородок.
Эдуард оделся и посмотрел на себя в зеркало. На нём был спортивный костюм со старыми стоптанными остроносыми туфлями. Видок был тот ещё. Правду говорил таксист – все откинувшиеся зеки на одно лицо. Эдуард порылся в вещмешке и вытащил маленькую записную книжку. На странице с буквой «М» маленькими буквами было выведено: «Марат, Москва, улица Верхняя Радищевская, ресторан „Охотничий клуб“», дальше слившимися цифрами шёл номер телефона, который разобрать так и не получилось. Запись была сделана пять лет назад. Старый друг, перед тем как освободиться, отправил на зону маляву с предложением заходить в любое время.
Но сейчас было не до Марата. Нужна была Лена – адвокат, которая защищала его на суде. Выясняется, что она знала об этой истории с Вадимом, но ничего не предприняла. Почему? Ответ на этот вопрос должен был пролить свет на следующий ход в этой загадочной истории. На закладке блокнота с буквой «Л» был номер телефона, который когда-то оставляла Лена. Под номером большими буквами было выведено: «Лена. Московская городская коллегия адвокатов». По крайней мере, первая зацепка уже была.
Спустившись в фойе гостиницы, Эдуард подошёл к справочной. За стойкой сидела молоденькая девушка с биркой «Reсeption». Она без умолку болтала по сотовому телефону и не сразу обратила внимание на Эдуарда.
– Доброе утро.
Реакции не было.
– Доброе утро! – громче повторил Эдуард и постучал по стойке.
– Сейчас, Галь... Не вешай трубку, – буркнула девушка в телефон и наконец-то соизволила посмотреть на просителя. – Чем я могу помочь?
– Мне нужно сделать звонок. Где у вас тут телефон?
Девушка, смерив Эдуарда взглядом, с опаской протянула ему гостиничный телефон. После длинных гудков на том конце ответил чей-то заспанный голос, который недовольно сообщил, что это никакая не коллегия адвокатов, а жилая квартира.
«Это было бы слишком легко», – мрачно подумал Эдуард, а вслух спросил:
– Вы не знаете, где в Москве располагается Московская городская коллегия адвокатов?
– Я не знаю, но у нас есть городской справочник. Сейчас посмотрю. – Девушка раскрыла пухлую книжку. – Вот, записывайте. Страстной бульвар, 6, строение 2.
– Там есть номер телефона?
– Есть, вот, – ответила девушка, показывая на столбик номеров.
Но, к сожалению, все попытки дозвониться хотя бы по какому-то из указанных номеров разбились о короткие гудки вечно занятых линий.
– Страстной бульвар, значит… – сказал про себя Эдуард и, захлопнув книгу, направился к выходу.
Москву, которую помнил Эдуард, как в той детской поговорке, слизала корова, пережевала и выплюнула нечто кричащее, разноцветное и суетливое. Каждый метр когда-то широких улиц теперь занимали многочисленные вкривь и вкось поставленные палатки, в которых шла бойкая торговля всякой снедью и барахлом. Небо и то теперь было скрыто растяжками и плакатами, рекламирующими шампуни, журналы, аппаратуру и бог знает что ещё. Под каждым домом были яркие витрины дорогих магазинов, с которых на прохожих взирали замершие в горделивых позах манекены. Это был чужой, незнакомый, не тот город, который помнил Эдуард. Куда-то делись вездесущие очереди, которые советский человек образца семидесятых-восьмидесятых годов воспринимал как само собой разумеющееся. Теперь каждый человек мог зайти в любой продуктовый магазин и на заваленных продуктами полках без предъявления талона найти всё что душе угодно. Эдуард чувствовал себя на улице черепахой, попавшей на беговую дорожку спринтеров. Мимо, обгоняя его, проносились угрюмые прохожие, гудели сигналами сердитые водители, звучала незнакомая речь, солнце нещадно напекало затылок. Всё это нагромождение звуков, цветов и запахов делало столицу похожей на один большой базар, на обманчивую бутафорию, которой подменили когда-то величественный город.
Эдуард вышел на Тверскую и, прежде чем свернуть на Страстной бульвар, решил пройтись до Красной площади. «Я не удивлюсь, – подумал Эдуард, – если вместо мавзолея теперь салон красоты». К его радости, Красная площадь оставалась такой же красной и площадью. До этой части Москвы наглые руки капитализма ещё не дошли, так что мавзолей с привычной глазу очередью стоял на своём законном месте, по брусчатке так же гуляли туристы, а на луковки куполов собора Василия Блаженного не были навешены рекламные плакаты. Подумать только, пятнадцать лет прошло... Когда это было? Весной 1987-го года? Да, точно... в мае 1987-го года... Ровно за неделю до того, как на Красную площадь приземлился тот немец на своём спортивном самолёте. Руст – так, кажется, звали того чудака, из-за которого уволили триста человек офицерского состава. Министра обороны – даже того не пощадили. С тех пор в народе Красную площадь стали называть «аэропортом Шереметьево-3».
Эдуард попытался вспомнить слова язвительного стишка, ходившего в ту пору по устам:
«Девятнадцать лет мальчишке, а смотрите, как он смел:
Он ведь Мишке Горбачёву чуть на лысину не сел,
Он главкома Колдунова мигом вдруг расколдовал,
И министра Соколова враз на пенсию сослал.
Пусть летят со всего света остальные летуны,
И тогда слетят скорее остальные пердуны».
Эдуард посмотрел на куранты Спасской башни. Часы показывали без десяти одиннадцать. Нужно было возвращаться к Страстному бульвару и искать Коллегию адвокатов. Бросив последний взгляд на единственный привычный кусочек Москвы, Эдуард закинул на плечо свой вещмешок и зашагал прочь.
Через полчаса он уже стоял в коридоре Коллегии и пытался привлечь к себе внимание людей в деловых костюмах, которые, уткнувшись в бумаги, безостановочно шныряли по коридорам, то и дело хлопая дверями кабинетов. Наконец ему удалось перехватить на лету девицу в строгих очках, которая сделала оплошность, подняв на Эдуарда глаза.
– Девушка, миленькая, подождите.
Девушка не остановилась, но замедлила шаг. Эдуард заковылял рядом.
– Девушка, мне нужно найти Елену Кравцову.
– Не знаю такую.
– То есть как не знаете? Она здесь работает… работала. Видная такая, блондинка, – попытался описать по памяти Эдуард, но тут же понял, что за пятнадцать лет она могла быть уже не та, какой оставалась в памяти.
– Извините, но я не знаю.
– А кто знает?
– Обратитесь в отдел кадров.
– А где он?
– Внизу, на первом этаже.
Эдуард остановился и попытался перевести дух. Истощённый организм явно не способствовал этим забегам по длинным коридорам.
– Сюда посторонним нельзя, – громко рявкнули откуда-то из-за папок, когда Эдуард просунул голову в дверь с вывеской «Отдел кадров».
– Да мне бы только спросить.
– Мужчина, вам же русским языком сказано! Нельзя!
– Я ищу Елену Кравцову, – не унимался Эдуард. – Я... я её двоюродный брат.
– Кто там ищет Кравцову? – донёсся из глубины кабинета властный женский голос.
Навстречу Эдуарду вышла ухоженная женщина лет сорока в строгом деловом костюме. В мыслях Эдуарда мелькнуло, что, может быть, это Лена и есть… но нет, это была не она.
– Это вы ищете Лену?
– Да, я... Я её двоюродный брат. Проездом в Москве. Вот, ищу сестрёнку, – снова солгал Эдуард.
– Хм... помню, она говорила о брате. Так вы из Рязани, что ли?
– Я? Да, да... Рязанский.
– Хм... это видно, – сказала женщина смерив Эдуарда взглядом. – Ну, проходите... Поговорим.
Женщина оказалась близкой подругой Лены, когда та ещё работала в Коллегии адвокатов. Из разговора с ней Эдуард, к сожалению для себя, узнал, что Лена давно не работает адвокатом и вообще обрубила со всеми связи, заперлась в квартире и никого не хочет видеть. Иногда близкие и знакомые отвозят ей продукты и деньги, которые Лена спускает на выпивку. С тех пор, как у Лены начались проблемы в личной жизни, её жизнь покатилась по наклонной, достигнув самого дна. Пару раз подруга пыталась вытащить её из той ямы, в которую Лена сама себя загнала, клала в больницу, лечила... но всё повторялось по замкнутому кругу. Наконец, поняв тщетность попыток спасти человека, даже самые близкие друзья и знакомые оставили эту затею.
– А какая женщина была! Ах... очень жаль её... – сокрушалась подруга. – Сильная, волевая, красивая... такая, что мужики штабелями лежали у неё ног. Даже похоронив родителей, Лена оставалась величественной! Но... что-то там у них произошло между ней и любимым мужчиной. Она никогда нам его не показывала. Но было видно, что человек это серьёзный. А теперь что? Сама себя загубила. Маялась душою, про какое-то дело вспоминала, молилась богу, чтоб простил её, грешную... Ну, в общем, нет больше у меня подруги... Очень жаль.
– Адресок можете дать? Или, может быть, номер телефона?
– А что толку? Не пустит она вас. Она даже меня, лучшую подругу, на порог не пускает. Через дверь крикнет, чтоб у порога оставила сумки, и всё. А телефон у неё из-за долгов отключили.
– Ну, может быть, у меня получится? Брат как-никак. Э-мм... детство вместе провели.
– Не думаю, но берите, конечно.
Эдуард вышел на улицу и взглянул на листок бумаги:
«Жулебино. Улица Генерала Кузнецова, дом 11, кв. 7».
В метро было многолюдно. Эдуарду уже испортили настроение, когда после томительных пятнадцати минут в очереди за проездным прямо перед его носом кассирша выставила на окошко надпись «перерыв» и, не сказав ни слова, ушла в неизвестном направлении. Эдуарду пришлось переходить в конец другой очереди, но пока он плёлся к заветной кассе, открылась первое окошко, а то, к которому он стоял, закрылось. Ругая всех кассиров на свете, Эдуард снова перешёл в конец первой очереди и ждал ещё пятнадцать минут.
Из-под вагонов доносился такой жар, что можно было печь пироги. Желающих уехать со станции именно этим поездом и никаким другим было так много, что их набивалось в вагон, словно огурцов в банку. После того как открылись двери, толпа приподняла Эдуарда с надраенного мраморного пола и внесла в состав. Шевелить получалось только головой. «Хорошо, хоть упасть не получится» – подумал Эдуард, когда поезд тронулся с места. На станции «Выхино» сделав пересадку на автобус, Эдуард добрался до Жулебино, оказавшимся тихим спальным районом с чистыми улицами, ухоженными клумбами и милыми детскими площадками.
Отыскав нужный дом, Эдуард упёрся в преграду в виде кодового замка подъезда. Потыкав наугад кнопки незнакомого ему приспособления, Эдуард решил подождать, резонно размышляя, что рано или поздно кто-то должен был войти или выйти из дверей. К счастью, ждать пришлось недолго: дверь открылась, и двое подростков, попивая пиво, прошли мимо Эдуарда – тот, не теряя времени, прыгнул в образовавшийся проём.
Вырванная с корнем кнопка звонка квартиры номер «7» не оставляла выбора, и Эдуард постучался: сперва деликатно, а потом сильнее.
– Уходи! – чуть погодя услышал он за дверью глухой женский голос.
Этот голос никак не вязался с той женщиной, которую помнил Эдуард.
– Здравствуйте, Лена. Это я, Эдуард. Откройте дверь, нам нужно поговорить.
– Не знаю я никакого Эдуарда.
– Ну как же так! Гусин Эдуард Владимирович. Вы пятнадцать лет тому назад вели моё дело на суде. Сгоревшая конюшня, два трупа... Вспомнили?
За дверью зашаркали шаги, было слышно, как брякает на полу стеклянная тара, что-то тяжёлое упало на пол, послышался мат... Потом наступила тишина. И когда уже Эдуард решил снова постучать, щёлкнул замок и дверь, открывшись на несколько сантиметров, упёрлась в стальную дверную цепочку. Из образовавшейся щели на Эдуарда смотрело одутловатое лицо со вспухшей верхней губой. Мутные маленькие глаза, сизые мешки вместо щёк и повязанная наспех косынка с выбивающимся клоком немытых волос заставили Эдуарда невольно дёрнуться от двери.
– Здравствуйте... Я ищу Лену Кравцову. Она здесь живёт? – в замешательстве переспросил Эдуард.
– Я Кравцова, – хрипло отозвалось лицо. – Чё надо?
«Это, наверное, какая-то ошибка, – подумал Эдуард. – Не может ЭТО быть ТОЙ…»
– Я Эдуард, Гусин Эдуард – помните меня?
В первую секунду ничего не происходило. Только маленькие глазки женщины быстро перебегали по лицу Эдуарда.
– Как ты меня нашёл?
– Мне ваша подруга дала адресок.
– Какая такая подруга? Нет у меня подруг.
– Из адвокатской конторы.
– Ааа.. ясно. Ну, проходи, коли пришёл.
Эдуард сделал шаг и оказался в помещении, освещённом висевшими на голых проводах лампочками. Квартирой эту помойку было назвать трудно. Пол устилал толстый слой грязи, обоев не было, везде валялись пустые бутылки из-под водки. Мешки с мусором были навалены в прихожей и источали ужасный смрад. Полчища тараканов сновали по стенам и потолку, совершенно не боясь за свою жизнь. Долго находиться в этой обстановке было невыносимо, и Эдуард с ужасом подумал, как эта женщина тут живёт. За пятнадцать лет колоний он видел многое, но даже ему эта обстановка показалась омерзительной.
Тем временем хозяйка прошла на кухню. На ней был растянутый зелёный халат в белый горошек.
Эдуард следом прошёл на кухню и с удивлением отметил, что она относительно чистая. В углу стоял стол с чистой скатертью, на окне висела голубая занавеска с розовыми цветочками, столовые приборы были аккуратно разложены по полкам. Эта кухня была словно последним пристанищем, жизненным пространством, которое хозяйка смогла отбить у тянущей её в бездну руки.
– Извини, чаем угостить не смогу.
– Лена, что с тобой? – только и смог вымолвить Эдуард, смотря на обрюзгшую, изменившуюся до неузнаваемости женщину, которую теперь уже и женщиной-то назвать было трудно. Лишь некоторые черты лица напоминали в ней Лену Кравцову, которая сводила мужчин с ума.
– А что? – глупо захихикала Лена, обнажая отсутствие передних зубов.
– Ну, ты очень изменилась.
– А что? – вновь переспросила она.
Эдуард не смог ничего ответить. Это был уже совершенно не тот человек, который смог бы пролить свет на события прошлых лет. Она, наверное, и вчерашний день не смогла бы вспомнить. Эдуард повернулся, чтобы уйти.
– Подожди... – услышал он за спиной сиплый голос.
Эдуард обернулся.
– Только жалеть меня не надо, хорошо? Ненавижу это! Ты, наверное, думаешь, как это она так опустилась, да? Как смогла дойти до этого состояния, когда от человека-то ничего не остаётся? Знаешь, а ведь до какого-то момента я могла остановиться. Но я сознательно, специально прошла эту точку невозврата. А знаешь, почему? Потому что по эту сторону не так сильно болит душа. Здесь если и есть боль, то она только телесная, затмевающая собой боль душевную, которая в сто тысяч раз сильней. Здесь хорошо. Здесь не преследует прошлое и можно не задумывается о будущем. Здесь живёшь только этим днём, этой минутой. Здесь только одна забота: где бы раздобыть выпить и чем бы закусить? Все остальные вопросы слишком далеки, чтобы занимать время. Проблемы? Зачем, если можно налить, и они уйдут сами собой.
Лена замолчала и в упор посмотрела на Эдуарда. Вдруг её верхняя распухшая губа задрожала, и Лена, издав гортанный, надрывный стон, заплакала.
– Вот, вот посмотри, что ты сделал! – сквозь слёзы кричала она. – Что тебе надо было от меня? Зачем приходил? Чтоб увидеть ту, которая погубила тебя? Чтоб насладиться моим падением? Я сама себя наказала за всё! Я, одинокая, опустившаяся алкоголичка... Это был единственный способ убежать от того, что меня мучило... Я думала, что всё забылось... Но пришёл ты...
– Что произошло? Ты же защищала меня! Ты знаешь, что не я поджигал конюшню? Я знаю, что ты знаешь об этом! Что, чёрт возьми, произошло той ночью?
Лена перестала плакать и теперь уже просто всхлипывала, дрожа всем телом. Она посмотрела на Эдуарда и в глазах её появилась решимость.
– Я расскажу... Мне нужно рассказать тебе. Я расскажу всё, что с нами сделал этот ирод! Но... прежде надо выпить... Да, нужно выпить…
Лена полезла под шкаф и достала оттуда бутылку водки. Поставив на стол два стакана, она до краёв их наполнила и, ничего не говоря, жадно, в несколько глотков осушила один из них.
– Ухх... вроде легче стало. Сейчас, сейчас... дай минутку. Всего лишь минутку...
Лена закрыла глаза и откинулась на спинку стула. Когда в следующий раз она посмотрела на Эдуарда, то её глаза уже подёрнулись дымкой, голос сделался развязным, а слова потекли медленно, словно кисель.
– Я любила его... Любила до беспамятства, – начала Лена. – Я говорю о Михаиле Валове.
– О дяде Мише? – удивился Эдуард.
– Дядя Миша... – усмехнулась Лена. – О нём, родимом... У него была семья, дети... Но я любила его и, как дура, думала, что он меня тоже. Но нет... Этот дьявол не был способен на любовь. Он просто пользовался мной, как дрессированной собакой. Я тогда работала у него в министерстве и выполняла всякие поручения. Иногда он мне дарил подарки, вывозил куда-то... Ну, знаешь... держал рядом с собой, как красивую куклу, чтобы хвастаться перед друзьями. У них у всех были такие же шлюхи, как и я. Они мерились нами, как мальчики мерятся писюнами. У чьей сиськи больше, чья лучше в постели? Хорошо ещё, что не менялись... Хотя были и такие случаи. Встречались на съёмной квартире... Иногда в кабинет вызывал, вроде как по делу, но стоило лишь посмотреть на него, и понимала, что нужно задирать юбку. Я всё надеялась, что он бросит свою грымзу и женится на мне. Старалась ему угодить... А он только обещал, обещал... Ко мне мужики-то и в женихи набивались, и руки просили на коленях. Хорошие, благородные мужчины. А я, дура, отказывала всем... Мишу ждала. Так и прождала всю жизнь...
Лена налила ещё водки.
– Однажды вызвал он меня к себе и говорит: дело есть. Нужно одного человека в тюрягу упечь. Я ему отвечаю: а при чём тут я? Я же не судья. Договорись с судьями, пусть закрывают его хоть на всю жизнь. А он отвечает, что уже договорился, но хочет, чтоб уже наверняка было. И заставил меня стать твоим адвокатом.
У Эдуарда затряслись руки. В ушах стучала кровь. Было одно желание – убить её тут же, но Эдуард сдержался, заставив себя слушать дальше.
– Я бы могла тебе тогда скостить срок, но не сделала для этого ровным счётом ничего. Наоборот, потопила тебя. Понимаешь? Сделала так, чтоб тебе дали максимальный срок из возможного. И потом, года через два, когда позвонила твоя мама и рассказала про того человека, у которого жена рожала... Я тоже ничего не сделала. Этот её звонок стал для неё смертным приговором. Да если и хотела бы... Он бы всё равно не позволил. Прости, но ты был разменной монетой в той игре, ценой которой был твой участок. Сколько я его помню, он всегда бредил этой проклятой землёй.
– Землёй?
– Вы же владели этим участком на правах бессрочной аренды. Таких семей на том острове было всего три или четыре. Все остальные семьи владели землями временно, поэтому их оттуда могли выдворить в любой момент по решению властей. Земля в том районе была не то чтобы очень дорогой, она была очень статусной. И приобщиться к этому статусу было вожделенной мечтой Михаила.
– Вот почему он так кружился вокруг нас… – задумчиво произнес Эдуард. – А где он сейчас?
Лена ответила не сразу. Размазывая слезы и сопли по лицу, она снова налила себе водки. Затем, будто намереваясь открыть какой-то секрет, пальцем поманила Эдуарда.
– Там же, в вашем доме, один и живёт! – шёпотом, дыша в лицо вонючим спиртом, сказала Лена.
– Как в нашем доме? – ошарашенно переспросил Эдуард.
– Ты что, вообще ничего не понимаешь? Я ж говорю тебе, дураку, что он затеял всё это, чтобы отобрать твою землю! Купить в свою собственность он землю не мог – ему бы не разрешили. Оставалось только уговорить вас, чтобы вы съехали оттуда, но по документам продолжали оставаться арендаторами земли. А вы каждый раз отказывали ему. Сперва твой отец, потом мать, а потом и ты. Он не любил отказов и не умел их принимать. Когда случилась эта история с твоей женой, он понял, что это шанс, которым нужно воспользоваться. А может, это он и убил твою жену... с тем... как его звали, не помню. Ну, любовником её... Чтобы тебя подставить. Единственная причина, по которой ты ещё жив, Эдуард, это то, что твои имя и фамилия должны стоять под договором аренды. Если ты умрёшь, то договор расторгнут и земля перейдёт под контроль городских властей. Поэтому было решено тебя упечь за решётку на долгий срок. Оставалось только решить маленькую проблему в лице твоей мамы. Но Любовь Александровна стояла до последнего. Она перестала ему доверять, после того как поняла, что Валов фактически держит её в своём доме, как пленницу. Михаил ждал, что твоя мать сама умрет, но, несмотря на все лишения и страдания, она, вопреки его планам, продолжала жить. Тот её звонок переполнил чашу терпения Валова, после чего было решено отправить её в дом престарелых. Там, заплатив одному из санитаров, с ней и покончили.
– Боже… мама… Но, но почему она мне ничего не сообщила?
– Она писала. Но Валов перехватывал все её письма. Да и что бы ты сделал? – криво усмехнулась Лена и громко рыгнула.
Эдуард ничего не понимал. Всё в мгновение ока перевернулось с ног на голову. Мысли в голове перемешались, запутались и теперь выдавали образы один глупее другого. В памяти стали всплывать истории и факты, которым раньше Эдуард не придавал особого значения. Он вспомнил, как незадолго до той роковой ночи он разговаривал с Валовым в его машине. Эдуард вспомнил слова генерала, брошенные ему вслед: «Рано или поздно я всегда беру то, что хочу». Теперь ему не казалось странным то, что во время суда Валов не помог, не заступился за сына своего друга, хотя мать говорила тогда, что встречалась с ним и передавала ему письмо с просьбой. А теперь оказалось, что он и есть главный злодей.
– А потом я забеременела, – больше скулила, чем говорила Лена. – У меня должен был родиться ребёночек. Но этот скотина запретил мне рожать! Так и сказал: родишь – убью. И тебя, и твоего ублюдка. Понимаешь? Он называл своего ребёнка ублюдком! Как только я ни просила, как только ни валялась в его ногах... этот ирод оставался непреклонен.
Слова Лены слились в один сплошной стон:
– ...я убежала... они нашли... Привезли в Москву... врач вырвал из меня... ребёночка вырвал... Потеряла много крови... Не могу больше иметь детей... Никогда... Всю жизнь мне сломал, понимаешь? Всю жизнь! Ненавижу!
Лена трясущейся рукой взяла стакан Эдуарда и быстро осушила его.
– Дети уехали... – забубнила снова Лена. – Жена умерла. Не выдержала этого садиста... А кто его выдержит? Его даже собственное сердце не выдержало. Два инфаркта перенёс. В первый раз ещё при мне. Таблетки принимал каждый день, чтоб сердце не остановилось. Жалкий, больной старикашка, а всё держится за этот свет. Знает ведь, что на том его ждёт кипящий котёл.
– А лошади? – вдруг вспомнил Эдуард. – А что с лошадьми стало? Может, про них тоже что-то знаешь?
– Лошади? Ммм.. лошадки. И-го-го! – залилась пьяным смехом Лена.
– Да, лошади.
– Не помню. Кажется, следователь тогда выяснил, что утром машину с тремя лошадьми, подходящими под описание, остановили на каком-то посту ГАИ по пути в Краснодар. Документы были оформлены на конезавод, кажется, «Закат» Ой, какое это теперь имеет значение? Я устала. – Она со стуком уронила голову на стол.
– Слышишь? – потряс за плечо Лену Эдуард. – Какой именно конезавод? Я знал все конезаводы страны. Не было в Краснодаре конезавода «Закат».
Лена подняла голову и попыталась сфокусировать взгляд на Эдуарде.
– Мммущинаа.. не угостите даму сигаретой? – жеманно поправив растрепавшиеся волосы, спросила Лена.
Эдуард с отвращением взглянул на сидящую перед ним женщину. Он попытался представить её в молодости – пышногрудую красавицу, вслед которой сворачивали шеи все встречные мужчины. Судьба не пощадила её, вернув втридорога все долги за содеянные грехи.
– Что же ты наделала! – с жалостью в голосе спросил Эдуард.
Вместо ответа Лена поднялась со стула и покачиваясь подошла к умывальнику. Погремев ложками, она отыскала раскладной, с поржавевшей рукояткой, нож и протянула Эдуарду.
Эдуард взял нож и посмотрел на еле стоящую на ногах женщину:
– Зачем? Ты и так уже мертва!
С этими словами Эдуард, чуть подумав, спрятал нож в свой вещмешок, встал и не оборачиваясь покинул квартиру. Выйдя из подъезда, он успел пройти несколько метров, когда услышал за собой отвратительный чавкающий звук падающего с высоты тела. Обернувшись, он узнал зелёный халат в белый горошек.
Глава третья
ПОСЛЕДНИЙ ПОЖАР
«Верхняя Радищевская», «ресторан», «припаркованные дорогие машины», «три смуглых охранника у входа», «непонятная речь», «смех», – Эдуард бесстрастно, словно кинокамера, фиксировал происходящее, при этом мыслями он был далеко. «Марат? А зачем он тебе?», «Смех», «Сидели вместе?», «Эдуард?», «Подожди здесь, я сообщу», «Проходи, брат».
Эдуард не сразу признал в мужчине, одетом в дорогой костюм и модный галстук, на котором поблёскивал золотой зажим с бриллиантом, Марата. Он удивлённо смотрел на вышедшего навстречу и приветливо улыбающегося друга, будто бы ожидал увидеть того в тюремной робе.
– Эдик, дорогой! – обнял Эдуарда Марат. – Ну вот и свиделись. Я-то думал, что и не приедешь больше повидать старого друга. Давай-ка пройдём в кабинет, поговорим в спокойной обстановке.
Кабинет оказался просторной комнатой в дальнем конце зала, вход в него прикрывала кружевная ширма. Белые стены, рабочий стол с папками, два стула, книжный шкаф, сейф и монитор, на котором постоянно менялись картинки с наружных камер наблюдения, – вот и вся скудная обстановка кабинета.
– Проходи, садись, – придвинул один из двух стульев Марат. – Да, вот такие спартанские условия. За двадцать лет колоний я, кажется, отвык от роскоши. Всё, что нужно для работы, у меня тут есть.
– Ну, не скажи... вон в какого фраера вырядился.
– Времена изменились, Эдик, – вздохнул Марат, поглаживая галстук. – Всё, что раньше решали с волыной в руках, теперь решают с помощью ручки и контракта. Делать нечего... Приходится соответствовать. Ну, рассказывай... Когда откинулся?
– Три дня назад. В Москву вчера ночью приехал.
– Остановиться есть где?
– Я думал, что есть.
– Как это? – удивился Марат.
– Долгая история, старина. Я как раз по этому поводу к тебе и пришёл.
– О, я-то, старый дурак, уж подумал, что повидать пришёл, а он, оказывается, по делу. Ну, выкладывай. Что у тебя там?
– Мне взрывчатка нужна, – понизив голос, сказал Эдуард.
Умилительное выражение тут же слетело с лица Марата.
– Для чего?
– Тебе лучше не знать. Просто достань мне это, и всё.
– Эдик, дорогой... Давай, расскажи мне... Может быть, я смогу решить проблему по-людски?
– Ты сможешь достать мне взрывчатку или нет?
– Но, послушай...
– Марат, мне некогда тут разговоры разговаривать, – решительно сказал Эдуард, вставая.
– Эй, эй... остынь. Это не картошка – на базаре не купишь.
– Сколько?
– Ну, день-два.
– Я имею в виду, по деньгам сколько?
– Вот тут ты меня обижаешь, Эдик... Что ж ты думаешь, что я совсем скурвился на воле? Думаешь, я дорогому другу просьбу за деньги буду выполнять?
– Ладно... слушай... извини. Я на нервах просто.
– Может, всё-таки расскажешь?
– Не могу, Уважаемый. Не хочу тебя вмешивать. Бог даст, сам узнаешь...
– Ясно, – вздохнул Марат, – а сколько нужно?
– Не знаю... – задумался Эдуард. – Чтоб разнести двухэтажный дом.
На лице Марата отобразилась крайняя степень удивления. Он открыл рот, чтобы снова что-то возразить, но Эдуард перебил его:
– Ещё нужны лопата, фонарь, сотовый телефон и номер телефона вот этого человека. – Эдуард взял листок бумаги со стола и написал имя.
– А лопата зачем? Не думаю, что после взрыва там что-нибудь останется, чтоб закопать… – И, посмотрев на листок, Марат добавил: – И что ещё за Денисов такой?
Эдуард промолчал. Марат исподлобья взглянул на Эдуарда.
– Ох, мне совсем не нравится то, что ты задумал. Но решение твоё... Дело, как говорится, житейское.
В дверь тихонько постучались:
– Готово, Марат Ниджатович.
Марат хлопнул себя по коленям и встал:
– Ну, всё-всё... Пойдём поужинаем. На голодный желудок дела не делаются.
Утром, открыв глаза в большой двухспальной кровати, Эдуард ещё долго не хотел вставать. В последний раз он просыпался в мягкой постели пятнадцать лет назад, поэтому хотел сполна насладиться моментом. Наконец силой воли заставив себя встать, Эдуард подошёл к огромному панорамному окну. За стеклом открывался потрясающе красивый вид на утреннюю Москву с её парками, Москва-рекой и ровными линиями проспектов.
В дверь постучались:
– Доброе утро, Эдуард Владимирович. Можно? – послышался из-за двери женский голос.
– Подождите, я оденусь.
Эдуард оглянулся в поисках своей одежды, но, к своему удивлению, обнаружил, что на стуле, на спинку которого он вчера повесил свой спортивный костюм, был только вещмешок. Эдуард обошёл все углы, посмотрел в тумбочку и даже заглянул под кровать. Одежды нигде не было.
В дверь снова постучались:
– Эдуард Владимирович, с вами всё в порядке?
– Да, всё хорошо. Только... я не могу найти свою одежду.
– Мы её выбросили, – отозвалась из-за двери женщина.
– То есть как это выбросили? – ошарашенно спросил Эдуард.
– Я по этому поводу и хочу к вам зайти.
Эдуард, обернувшись в простыню, открыл дверь и с удивлением стал наблюдать, как в комнату медленно вкатывается длинная вешалка на колёсиках с развешанной на ней одеждой. Вслед за вешалкой в комнату вошла женщина в форме домработницы.
– Ещё раз доброе утро. Марат Ниджатович просил передать вам, что не сможет присутствовать на завтраке. Ему пришлось срочно уехать по делам. Вы можете выбрать всё что хотите из этой одежды. Она подобрана специально под ваш размер. Обувь вы сможете найти в шкафу на нижней полке. В гостиной на столе вас ожидает конверт. Завтрак будет готов через десять минут, – ровным, как стекло, голосом продекламировала женщина и вышла из комнаты.
Через десять минут Эдуард, одетый в хлопковую рубашку голубого цвета и синие льняные брюки, вошёл в гостиную. На сервированном к завтраку столе он увидел конверт. Раскрыв его, Эдуард обнаружил в нём небольшую записку:
«Доброе утро. Мне пришлось срочно уехать на несколько дней по делам. Квартира в твоём распоряжении. Отдохни. Знаю, тебе ещё не скоро представится такая возможность. Вечером за тобой заедет машина. Всё, что тебе нужно, будет у водителя. До свидания, дорогой друг».
«Прощай», – мысленно добавил Эдуард.
День длился мучительно долго. Эдуард в который раз до мельчайших подробностей прокручивал в голове свой план. Чувство обиды за свою сломанную жизнь, за смерть матери, за рухнувшие надежды требовало возмездия. «Месть – это блюдо, которое подаётся холодным», – вспомнил Эдуард где-то услышанную фразу. Пятнадцать лет прошло, оно уже остыло, можно подавать. Решимость, которая овладела сердцем Эдуарда, никуда не делась. Наоборот, она укоренилась в сознании, ледяными кольями засела в сердце. Эдуард отчётливо представлял, что и как собирается сделать, и его совесть ни разу не подала голоса, способного размыть чёткий рисунок запланированного акта расплаты.
«Лишь бы не разрушили... Если его уже нет, то конец», – повторял про себя Эдуард.
Наконец, устав от раздумий, он включил телевизор. На экране маленький круглый мужик в кепке на фоне ресторана «Прага» громко признавался в любви Москве, называя её своей девочкой.
Было уже около одиннадцати часов вечера, когда в двери постучали. Голубоглазый, бритый наголо мужчина, представившись Дмитрием, передал, что машина ждёт у выхода.
– Куда ехать? – спросил Дмитрий, когда Эдуард уселся на заднее сидение тонированного «мерседеса».
– В Серебряный Бор.
– На Звенигородском шоссе сейчас пробки, – предупредил водитель. – Там дорогу перестраивают.
– Ничего, я не спешу, – ответил Эдуард. – Можешь передать мне сотовый и номер телефона, который я просил?
– Да, конечно, Эдуард Владимирович.
С этими словами он достал из бардачка и передал Эдуарду новенький телефон и листок с номером. Эдуард набрал номер.
– Алло! – послышался голос пожилого мужчины.
– Евгений Борисович?
– Да, кто это?
– Это Эдуард Гусин.
– Эдик, дорогой. Как я рад тебя слышать!..
– Я вас тоже. Не хочу отнимать у вас много времени. У меня к вам важный разговор...
Вечерняя Москва была величественна и прекрасна. Словно аристократическая дама, одевающая на выход свои лучшие наряды, Москва во тьме блистала бриллиантами уличных огней и бархатом подсвеченных строений. Машина, то и дело застревая в заторах, медленно катила мимо старинных храмов, умиротворённо смотрящих на земную суету с высоты своих шпилей, мимо строгих зданий из стекла, зеркалом отражающих душу оживлённых, полных движения улиц, мимо жилых домов, мигающих электрическим светом вечерних окон. Темнота, словно вуалью скрывая дневной оголтелый мир, с его угрюмостью, суматохой и убогостью, открывала перед глазами Москву, которую по праву воспевали в песнях.
Предаваясь очарованию вида из окна, Эдуард на время забылся. Хотелось вот так вот просто ехать в машине, покачиваясь на кожаных сидениях, смотреть на огни и не думать ни о чём. Но саднящая, больно царапающая разум мысль, будто засевшая под ногтём заноза, то и дело возвращала Эдуарда в тревожную реальность.
– Куда дальше? – спросил водитель, когда машина проехала Хорошевский мост.
– Парк «Ветеран» знаешь?
– Знаю.
– Мне нужно туда.
– Там сейчас много людей, Эдуард Владимирович. С вашим... – Дмитрий запнулся, – багажом туда идти опасно.
– Ничего, езжай. Я знаю, где перекантоваться.
Машина медленно проехала по Таманской улице и остановилась около парка. Где-то далеко, на пляже, играла музыка. Водитель вышел из автомобиля и осмотрелся. Парк казался пустынным.
– Выходите, Эдуард Владимирович.
Эдуард вышел из машины и подошёл к открытому багажнику.
– Это ваша посылка, – указал на свёрток Дмитрий. – Умеете пользоваться?
Эдуард покачал головой.
– Всё просто. Сейчас покажу.
Взрывчатка представляла из себя четыре похожих на хозяйственное мыло брикета, сложенных вместе и перевязанных скотчем. Сверху был прилажен детонатор с таймером и двумя торчащими проводами. Эдуарду всегда казалось, что провода в бомбе должны быть непременно голубого и красного цвета, как бы олицетворяя жизнь и смерть, но тут они были обычного белого цвета.
– Это си-4, американского производства. Правда, собирали его наши умельцы из китайских деталей, так что прошу прощения за такой непристойный вид. Да и за этой игрушкой пришлось немало побегать. Вот пульт от него, – Дмитрий вложил в руку Эдуарда небольшой прямоугольник с антенной. – На нём одна-единственная кнопка, так что не ошибётесь. Чтобы привести взрывчатку в рабочее состояние, нужно соединить два эти провода...
– А он не взорвётся в это время?
– Не должен... – ответил Дмитрий, и от этих слов Эдуарду стало не по себе. – Сигнал срабатывает на расстоянии до ста пятидесяти метров. Таймер выставлен на три минуты. Снимаете предохранитель, нажимаете на кнопку и... наслаждаетесь салютом.
– Ясно, – пробубнил Эдуард.
– Фонарь. Луч в нём очень сильный, так что не размахивайте им в темноте. Тут ещё лопата. Только мне пришлось отрезать чуть-чуть верхушку, а то в багажник не входила. Ах да, чуть не забыл... Марат Ниджатович просил передать вам ещё вот это.
Дмитрий, достав из кармана пачку денег, протянул Эдуарду.
– Передавай Уважаемому мою благодарность.
– Передам, Эдуард Владимирович. Что-нибудь ещё?
– Нет, это всё.
– Может, мне всё-таки с вами пойти?
– Нет, Дима. Ты и так сделал многое, – ответил Эдуард, укладывая бомбу и фонарь в вещмешок. – Отсюда я сам. Ты езжай.
Когда-то, ещё до Великой Отечественной войны, на месте парка было колхозное поле, на котором сажали брюкву. Как брюква могла расти на сплошном песке, оставалась загадкой, но после войны колхоз расформировали (возможно, из-за того, что брюква так и не выросла) и территорию, вместе со всеми постройками царских времён, среди которых были красивые выездные усадьбы аристократии, отдали под дачи партийных деятелей и чиновников в погонах. В одной из таких усадеб когда-то и поселилась семья Эдуарда. Во времена Октябрьской революции часть царской аристократии, не успевшей уехать из страны, пытаясь хоть как-то обезопасить свои семьи, делала в домах запасные, отходные пути, тщательно их замаскировав. Ночные визиты людей в тельняшках и кожаных куртках, после которых бесследно исчезали целые старинные семьи, вынуждали идти на крайние меры. Туннели обычно рыли из погребов и подвалов, у входа в которые уже наготове стояли чемоданы, набитые вещами первой необходимости. Такой тайный туннель был и в доме Эдуарда. Он начинался в подвале и тянулся под землёй на добрые двести метров, выходя на заброшенный пустырь рядом со свалкой. У Эдуарда были плохие воспоминания из детства, связанные с этим туннелем. Стоило ему подумать о нём, как тело покрывалось гусиной кожей и становилось трудно дышать. Но сейчас туннель был единственной надеждой. Нужно было просто перебороть панику и войти в него.
«Лишь бы не разрушили... – в который раз подумал Эдуард, углубляясь всё дальше и дальше в темень парка. – Лишь бы не разрушили...»
Обходя свободные от деревьев поляны и опушки, Эдуард дошёл до середины парка и, усевшись под кустистыми зарослями, стал ждать. Тишина парка умиротворяла и баюкала. В ночное время парк жил своей особенной, скрытой от дневного света жизнью. Где-то над головой заухала сова. Ёж, шелестя жухлой травой, протопал по своим ежиным делам. Далёкие огни пляжа, иногда пробиваясь сквозь густую листву, перемигивались с высокими звёздами. Эта была настоящая свобода, дурманящая запахом земли и сладостными звуками природы.
Эдуард вдруг подумал: а что будет потом? Странно, что такая простая мысль не приходила ему раньше. Что он будет делать после того, как выполнит затеянное? На него выйдут очень быстро, это было понятно и ежу, который только что прошёл мимо. А что потом? Ещё один арест? Снова срок? Опять колючая проволока и высокие стены колонии? Нет, в тюрьму он не пойдёт, это Эдуард решил для себя твёрдо. Всё что угодно, но не серая роба заключённого. Даже смерть теперь, когда он снова ощутил вкус свободы, казалась лучшим исходом.
В этой истории оставалась последняя нерешённая задача. Чтобы поставить точку, нужно было выйти на след пропавших лошадей. Лена говорила про конный завод «Закат», но Эдуард точно знал, что такого завода в СССР не было, зато рядом с Армавиром был конный завод «Восход». Заведующим конезаводом в те времена был близкий друг отца, с которым Эдуард уже успел поговорить из машины. Из разговора стало ясно, что Евгений Борисович уже давно на пенсии и сейчас живёт в Сочи. Напросившись в гости, Эдуард хотел узнать у бывшего заведующего о своих лошадях. «Если и привозили в те края трёх ахалтекинцев, то Евгений Борисович Денисов о них обязан был знать», – предполагал Эдуард. Вот как повернулся вал истории. Начавшись в городе Сочи, она, сделав кульбит в пятнадцать лет, теперь должна была там и закончиться. Эдуард нащупал в кармане толстую пачку денег и удовлетворённо улёгся на траву. «Лишь бы не разрушили туннель...» Ждать оставалось недолго.
Была уже глубокая ночь, когда на городском пляже погасли огни. Нужно было выдвигаться, и Эдуард, прихватив свои вещи, пошёл к посёлку. Оставаясь незамеченным, он проскочил пустынный проезд, разделяющий парк и жилые дома, и, держась в тени, направился к своему дому. А вот и дом, когда-то такой родной, но теперь только усиливающий злобу и ненависть. Эдуард бросил на него мимолётный взгляд и побежал к пустырю, который начинался сразу за домом. Свалка оказалась огорожена сеткой и теперь имела цивилизованный вид, с асфальтированными дорожками и баками для мусора. У Эдуарда ёкнуло сердце. А что если всё-таки туннель разрушили? В темноте было не разглядеть, и Эдуард с тревожным сердцем пошёл к тому месту, где, как он помнил, была насыпь, под которой скрывался вход в туннель.
– Где же он? Где? – повторял Эдуард, шаря в темноте. – Он должен быть здесь…
Нужно было включить фонарь, но это привлекло бы внимание. Кто бы мог ошиваться на свалке в темноте? Разве что... «Точно! Если спросят – я ищу кольцо, которое выбросили по ошибке. Ну, или бог знает, что я могу искать в мусорке ночью. Хотя бы те же ключи...» Но нужно было действовать быстро. Эдуард обернул фонарь краем своей рубашки и посветил в ту сторону, где должна была быть насыпь. Луч фонаря словно ножом прорезал тьму и тут же высветил заветную горку, буйно заросшую бурьяном и лопухом. «Вот он! Слава богу, на месте», – обрадовался Эдуард. Выключив фонарь, Эдуард оглянулся. Вокруг не было ни души, и только облезлый кот, прищурившись единственным глазом, следил за ночным гостем. Работа предстояла немалая, а до рассвета оставалось от силы часа четыре.
Спустя два часа усиленных взмахов инструментом, когда, обливаясь потом и натерев руки до кровавых мозолей, Эдуарду уже стало казаться, что идея с туннелем – пустая затея, лезвие лопаты провалилось в пустоту. Наконец-то! Раскопав вход, Эдуард посветил в образовавшуюся нору. Луч света уходил глубоко в туннель и упирался в обвалившуюся с потолка землю. Эдуард сглотнул. Это было то самое место, где его в детстве придавило землёй и он чуть не умер. Вроде бы давно побеждённая клаустрофобия вдруг стальными тисками стиснула горло, так что стало трудно дышать. Волна озноба, появившаяся где-то в лодыжках, прокатилась по всему телу и вышла из макушки. Неимоверным усилием силы воли Эдуард заставил себя втиснуться в затянутый паутиной узкий проход с низким потолком и сделать несколько шагов. В нос ударил запах сырости и гнили. Борясь с тошнотой, Эдуард, пригнувшись, медленно стал пробираться вглубь туннеля. Свет фонаря шарил по ветхим столбам, поддерживавшим арки свода, готового в любой момент обвалиться, похоронив любого, кто осмелился нарушить его многолетний покой. Шаг за шагом Эдуард приблизился к обвалу, преграждающему дальнейший путь. Потрогав землю, Эдуард к своей радости понял, что она, вопреки времени, не затвердела, и её будет легко убрать с дороги. В этот раз пришлось действовать руками, так как в узком проходе с лопатой было не развернуться. Раскопав проход, Эдуард в последний раз посветил в сторону входа в туннель. Луч выхватил из темноты одноглазую морду кота, который, мяукнув, исчез в подсвеченном фонарным лучом круге проёма. Время поджимало, и нужно было двигаться дальше. Впереди был опасный путь длиной около ста восьмидесяти метров.
Густой, спёртый воздух был так тяжёл, что, казалось, его можно было трогать руками. Эдуард совершенно потерял счёт времени. Ему казалось, что он идёт час или два, а может, и целую вечность. Трухлявые деревянные столбы, сырые стены, облепленные слизняками, пол, выстланный булыжником, арки, поддерживающие свод, – всё было совершенно одинаковым. Впереди всё выглядело точно так же, как и сзади, и поэтому было непонятно, прошёл он сотню метров или находится только в начале пути. В этот момент он себе казался хомяком, бегущим в крутящемся барабане. В голову пришла дикая мысль, что если он вдруг потеряет направление и пойдёт обратно, то может так же дойти до начала своего пути, так и не поняв, что идёт назад. А что если он уже идёт назад? И чем больше Эдуард думал об этом, тем больше его одолевали сомнения. Вскоре сомнения переросли в уверенность. Эдуард даже вспомнил, как где-то во время пути у него с плеч упал вещмешок и он повернулся его подобрать. То что подбирал его, Эдуард помнил, но вот повернулся ли он обратно, чтобы пойти дальше? Теперь Эдуард в луче прыгающего света вот-вот ожидал увидеть земляной холм, который собственноручно откопал. Так он, сгорбившись, прошёл ещё некоторое расстояние, пока белый свет фонаря не уткнулся в глухую стену из поблёскивающего металла.
– Здесь должна быть дверь, – сказал сам себе Эдуард и не узнал собственного голоса.
Звук исходил словно бы из дырявой трубы. Визгливый, режущий слух голос, каким обычно разговаривают клоуны.
Смахнув паутину, Эдуард провёл ладонью по холодному металлу. Пальцы тут же нащупали пазы, на которых держалась тонкая дверь из нержавеющей стали. Она, как помнил Эдуард, из подвала открывалась внутрь туннеля, и поэтому с этой стороны ручки не было. Нужно было чем-то подцепить и попробовать открыть. Но чем? Посветив вокруг, Эдуард не нашёл ничего подходящего. Нож! У него должен быть нож, вдруг вспомнил Эдуард. Найдя на дне вещмешка раскладной нож – последнюю память о Лене Кравцовой, – он просунул остриё в узкую дверную щель и попробовал надавить. Дверь, тонко заскрипев, поддалась. Тихо, чтобы не шуметь, Эдуард потянул на себя лист железа и заглянул в подвал. На полу помещения валялся всякий хлам: доски, арматура и банки с краской были свалены в одну кучу и покрылись толстым слоем пыли. Было видно, что подвалом давно не пользовались. Эдуард вспомнил, как мама держала здесь свои банки с варением и соленьями. Тогда было одно удовольствие заходить в светлый, освещённый плафонами подвал с аккуратно разложенными на полках банками.
Взрывчатку можно было ставить прямо здесь, прикидывал Эдуард, когда уже стоял под низким потолком погреба. Он находился прямо под домом, так что взрывная волна, отражаясь от бетонных стен, должна была пойти вверх. Эдуард достал взрывчатку и дрожащими руками соединил два провода. На детонаторе зажглась зелёная лампочка и высветились цифры «03:00». Всё было готово, и осталось только нажать на кнопку взрывателя, чтобы превратить дом в пылающие щепки.
– А хватит ли тебе времени, чтобы добежать, Эдик? – вполголоса спросил сам себя Эдуард. – Да уж, об этом я не подумал.
Можно было, конечно, активировать детонатор из туннеля, но оттуда мог не сработать сигнал. Выбора не оставалось: нажимать здесь и нестись со всех ног по подземному проходу, надеясь на то, что времени хватит, чтобы добежать до выхода.
Эдуард повертел в руках пульт. Одно-единственное движение освобождало сердце от тяжести обиды, но оно же приравнивало его к тому, кто породил эту тяжесть. Эдуард за пятнадцать лет колоний, за бесконечные ночи раздумий и терзаний, заставил себя привыкнуть к мысли, что на его руках кровь людей. Он принудил себя жить с этим чувством вины, свыкся со своим положением, как свыкаются со своей внешностью люди с врождёнными уродствами. Но даже при всём при этом где-то глубоко внутри, куда не доходил голос логики и не было слышно приказов силы воли, всегда жило маленькое, робкое сомнение, которое дарило призрачное тепло надежды. Тот, кем он себе казался, кем он себя ощущал, никак не мог выстрелить в человека. В миллионный раз прокручиваемой в голове сцене, где он врывается в комнату и застаёт любовников, всегда белым пятном оставался момент нажатия на курок. Как и описанный в подробностях акт распятия Иисуса Христа, но с пропущенным моментом самого прибивания гвоздями. Одно-единственное мгновение, которое, словно пахотная борона, прошлось по его жизни, отвергалось всем существом как невозможное и ошибочное. И теперь, держа в руках пульт, Эдуард понимал, что убьёт по-настоящему. Он это сделает обязательно, но прежде ему захотелось посмотреть в лицо тому, кто приравняет его к убийцам. Эдуард взглянул на крутую каменную лестницу, ведущую в подсобку, спрятанную под лестницей.
«Что ты делаешь? – говорил сам себе Эдуард, поднимаясь по лестнице. – Просто нажми на кнопку и беги».
Эдуард понадеялся, что дверь подсобки, ведущая в подвал, будет заперта, но бронзовая ручка, легко поддавшись, тихо щёлкнула, впуская ночного гостя в мир, из которого его бесцеремонно вытолкнули.
Дом дышал безмятежностью предрассветного сна. Тишину ночи слегка раскачивало тиканье старинных настенных часов, тех самых, которые когда-то принадлежали Гусиным. Их тяжёлый бой врезался в память Эдуарда так глубоко, что он мог бы отличить этот звук из тысячи подобных. Эдуард, высунувшись из подсобки, словно из иллюминатора машины времени, осматривал стены, которые не видел пятнадцать лет. Сделанный ремонт уничтожил почти всё, что с такой любовью воскрешал в памяти Эдуард. Нетронутыми оставались лишь настенные часы и высокие колонны в холле – несколько мазков из картины прошлого, которых хватило, чтобы в ушах зазвучал ласковый голос матери, зовущей к обеду. Темнота ночного дома вдруг озарилась тёплым светом летнего заката и ярким, почти осязаемым счастьем детской безмятежности. Память, тонкими пальцами быстро-быстро перебрав картотеку давно забытых образов, остановилась на том дне, когда маленький мальчик наблюдал через распахнутую дверь, как отец, улыбаясь и держа под уздцы лошадь, заходил во двор. Изящное животное на высоких тонких ногах и радостное лицо отца отпечатались в памяти, словно на цветной фотокарточке. И будто не было этой изувеченной судьбы, не было пятнадцати лет скитаний и лишений. Было лишь блаженная тишь родного дома – места, дарующего покой.
Плутавший по тёмным углам мечтательный взгляд упал на настенные часы, которые тут же вернули Эдуарда в тревожную реальность, где он был не хозяином, а преступником, вламывающимся в чужую собственность. Отогнав от себя нахлынувшие чувства, Эдуард осмотрелся. Убедившись, что никого нет, он вышел из подсобки и, прежде чем подняться на второй этаж, закрыл изнутри входную дверь. Скрестись в каждую комнату было бы неосторожно, поэтому Эдуард, подумав, направился к самой большой комнате, которая когда-то принадлежала его родителям.
Дверь, тихо щёлкнув металлической ручкой, открылась, и Эдуард осторожно шагнул в освещённую настольной лампой комнату. В нос ударил запах корвалола и ещё чего-то противного, настоянного на спирту. На большой двухспальной кровати с высоченным изголовьем в виде короны, сложив руки на груди, лежал глубокий старик. Его обтянутый тонкой, почти пергаментной кожей череп просвечивал частой сеткой синих вен. Глубоко впалые глаза были закрыты, из кривой прорези рта время от времени вырывался приглушённый свист натужного дыхания. Прикроватная тумбочка была больше похожа на аптечную витрину, чем на предмет мебели. Разноцветные коробки с таблетками и пузырьки микстур были навалены друг на друга, образуя внушительную горку, возвышающуюся у изголовья кровати.
Эдуард прикрыл за собой дверь и осторожно подошёл к спящему. Узнать в иссохшем старике Михаила Валова было практически невозможно. Куда подевался тот человек, перед физической мощью которого любой чувствовал себя мелким, слабым, напрасно занимающим место на этой планете существом? Тщедушное тело из последних сил держало в себе остатки жизни и, судя по количеству лекарств, очень не хотело их отпускать.
– Кто здесь? – вдруг прозвучал кряхтящий голос старика.
Эдуард отошёл к двери и не спешил с ответом.
– Кто ты? Я знаю, здесь кто-то есть. Серёжа, ты? – всё более волнуясь, снова спросил Валов.
Эдуард молчал. Ему очень захотелось понаблюдать за ничтожностью своего врага. Насладиться минутой его унижения, поиграть им, словно кошка играет со своей добычей перед тем, как съест её.
Старик зашуршал одеялом, пытаясь привстать на кровати.
– Я старый человек... Бери что хочешь и уходи, – обратился старик к тёмному силуэту у стены. Эдуард заметил, как рука старика медленно потянулась к тумбочке.
– Руку убрал! – скомандовал Эдуард.
Дрожащая рука старика тут же отдёрнулась.
– Я знаю этот голос, – проблеял старик. – Кто ты?
– Страшно? – отозвался Эдуард. – А ведь мне тоже было страшно, когда по твоей воле я оказался за решёткой, дядь Миш. Ты даже не представляешь, как, чёрт возьми, это страшно, когда переступаешь порог «хаты».
Повисло молчание.
– Эдик? Эдуард, это ты? – наконец прошептал Валов.
Эдуард отступил от стены и сделал пару шагов к свету. Старик не мигая смотрел на фигуру, нависшую над ним. Тяжёлое прерывистое дыхание не давало словам вырваться наружу. Вместо этого Валов с застывшим в глазах ужасом, словно рыба, оказавшаяся на песке, беспомощно открывал и закрывал рот.
– Ты что-то хочешь сказать? А?
– Сердце... – наконец-то выжал из себя Валов.
– Сердце? Где оно у тебя было, когда жизнь мне ломал? Это же ты меня за решётку гнить отправил! Это ты убил мою мать! Ты отобрал всё, что у меня было! Ты раздавил, растоптал меня! И после всего этого ты хочешь, чтобы я поверил, что у тебя есть сердце?
– Сынок, всё не так... – пересиливая боль, зашептал Валов. – Я не имею к этому отношения! Наоборот, я сделал всё, чтобы тебя не осудили. Твоя мать просила... я обращался к Гришину... Просил за тебя. Понимаешь? Не получилось у меня... А мать твою я выхаживал как мог.
– Заткнись, гнида... Врёшь ты всё! Даже на смертном одре врёшь...
– Там… в шкафу… – выдавливал каждое слово из себя Валов, – посмотри… папка для тебя. Я знал, что ты придёшь.
Эдуард переменился в лице.
– Какая папка?
– Там ответы на все твои вопросы, Эдик. Посмотри… там…
– Но Лена говорила..
– Лена? И ты поверил словам этой алкоголички? И где ты только её нашёл? Я думал… – Валов сглотнул, – думал… она давно сдохла под каким-нибудь забором. Она сама всё испортила, сама... а потом, когда я принял меры, затаила обиду.
Эдуард покосился на шкаф, стоящий в темноте в дальнем углу комнаты.
– На какой полке? – недоверчиво спросил Эдуард.
– Там... справа... открой.
Эдуард нерешительно подошёл к шкафу и открыл правую дверцу. На полках ровными стопками было разложено накрахмаленное постельное бельё. Мысль о том, что его опять обманули, совпала со звуком взводимого за спиной курка. Эдуард оглянулся и увидел дуло пистолета, смотрящее в его сторону. Старик, вытянувшись вперёд и превозмогая удушье, пытался прицелиться. Захлёбываясь собственной слюной, он водил дулом пистолета по темноте, выискивая в мутной, горящей болью комнате ненавистный силуэт. Глаза на перекошенном от ярости лице сверкали злостью. Силы стремительно покидали его и, прежде чем отправиться на тот свет, старик жаждал найти себе попутчика.
– Нужно было тебя тоже тогда убить… – прохрипел старик, уловив движение тени в дальнем углу.
Эдуард инстинктивно пригнулся. «Сейчас или никогда», – успела мелькнуть мысль, когда он быстрым движением достал из кармана пульт и нажал на кнопку. Одновременно с ним, собрав остатки последних сил, на спусковой крючок нажал и Валов. Тишину ночи разрезал оглушительный гром, а где-то внизу таймер начал обратный отсчёт.
Некоторое время Эдуард прислушивался к себе, ожидая болевую волну из того места, куда должна была попасть пуля. Боль всё не приходила... Осознав, что не ранен, Эдуард взглянул на Валова. Старик, откинувшись на подушку, мёртвыми глазами смотрел в потолок.
Во дворе послышался лай собаки и донеслись голоса. Кто-то снаружи пытался выломать дверь.
«Бомба!» – вдруг вспомнил Эдуард. Сколько времени прошло? Минута? Две? В момент выстрела всё в голове у Эдуарда перемешалось, и теперь он не мог понять, сколько времени оставалось. Взрыв мог произойти в любой момент. Нужно было скорее выбираться из дома, пока он не взлетел на воздух. Эдуард со всей силы бросился вниз.
«Лестница... холл... подсобка... ещё лестница... – повторял на бегу Эдуард. – Господи, зачем делать столько лестниц?»
Пробегая возле бомбы, Эдуард бросил взгляд на таймер. На табло красным цветом горело «2:10». За две минуты нужно было успеть выбежать из тоннеля. Эдуард успел юркнуть в проход и даже пройти в кромешной тьме десяток метров, когда вдруг вспомнил про фонарь.
«А где фонарь? В вещмешке! А вещмешок где? Чёрт, остался в подвале!»
Можно было бы махнуть на него рукой, но там были документы. Пришлось возвращаться и тратить на это драгоценные секунды. Ещё один взгляд на табло – «1:40». Полторы минуты и двести метров тёмного, полного преград тоннеля. Накинув на спину рюкзак, Эдуард не теряя времени полез в тоннель.
«1:30, 1:29, 1:28…» – считал про себя Эдуард, следя за прыгающим белым лучом, лизавшим стены тоннеля. С каждым шагом волнение, удавкой повисшее на шее, уходило, уступая место робкому ликованию. Вот уже показалась знакомая обвалившаяся с потолка насыпь. После неё оставалось сделать всего пару десятков шагов, чтобы полной грудью вдохнуть свежий ночной воздух. В запасе было ещё куча времени и всего пятьдесят метров пути, когда позади вдруг ухнул звук взрыва. Всё вокруг заходило ходуном, словно от землетрясения. Ударная волна, прокатившись по тоннелю, подхватила Эдуарда и как щепку отшвырнула вперёд. В глазах Эдуарда всё поплыло, он лежал в груде камней и досок и из последних сил цеплялся за остатки ускользающего сознания. Единственным маяком реальности происходящего был свет, исходящий от фонаря, который каким-то чудом не выпал из рук.
«Почему так рано?» – успел подумать Эдуард, когда обратил внимание на грохот, доносящийся из глубины тоннеля. Усиливаясь с каждой секундой, словно раскаты грома, грохот тяжёлой, устрашающей поступью приближался к Эдуарду. Луч фонаря метнулся в темень прохода. В дрожащем пятне света Эдуард увидел, как обвал, хрустя досками и разбрасываясь камнями, метр за метром жадно пожирает тоннель. Медлить было нельзя! Борясь с головокружением, на заплетающихся ногах Эдуард не оглядываясь побежал к выходу. Каждый метр, оставленный позади, тут же исчезал в ненасытном зеве обрушения. И вот уже он чувствовал смрад пыльного дыхания зверя прямо у себя за спиной, ощущал его каменные объятия, в которых должен был сгинуть навеки. Спотыкаясь и падая, в грязной, насквозь вымокшей в поту одежде, последние метры Эдуард уже полз на четвереньках. И когда казалось, что хищная пасть обвала вот-вот должна была захлопнуться у него над головой, Эдуард с каким-то кошачьим проворством бросился в спасительную прорезь выхода. В этот же момент обрушившийся тоннель выплюнул ему вдогонку вековую пыль.
Всё было позади... Он жив... Как же было прекрасно лежать на земле и видеть над собой не низкий пыльный свод тоннеля, который секунду назад хотел тебя раздавить, а бесконечную высь предрассветного неба. Отдышавшись, Эдуард встал и быстрым шагом пошёл к парку. За его спиной оранжевые языки пламени весело отплясывали над тем, что осталось от дома.
Глава четвёртая
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Павелецкий вокзал представлял из себя разноцветный муравейник мелькающих лиц, свёртков, чемоданов, шляп… Грузчики неславянской внешности деловито сновали в тесном потоке людей, толкая перед собой полные вещей тележки. Их окрик «дорогу!» звучал то тут, то там, смешиваясь со стуком колёс, криками людей, доносящейся из ларьков музыкой и гнусавым голосом диктора, бубнящего про прибытие и отбытие поездов. В хлопотливой суете никто не обращал внимания на мужчину с вещмешком на плече, который, низко опустив голову, протискивался сквозь толпу к синему поезду с табличками «Москва – Сочи». Эдуард ловко маневрировал между навьюченными тяжёлыми сумками людьми, которые, судя по поклаже, тащили с собой половину нажитого за всю жизнь имущества. На одного из них Эдуард бросил сочувственный взгляд. Грузный мужчина средних лет с багровым от натуги лицом под уничижительную тираду идущей позади, видимо, тёщи тащил два здоровенных чемодана. Его жена, тоже неся в руках увесистую сумку, грудью необъятных размеров прорубала впереди путь. Рубашка мужчины вымокла до нитки и прилипла к телу, светлые летние брюки тоже были изрисованы струями пота, но неугомонная тёща не могла простить зятю того, что ей приходится провожать их, отменяя привычные посиделки с соседками, у которых: «Зятья как зятья, всё сами! И жёны на моря едут в нарядах и на каблучках, а не как носильщики! И вообще…»
Дородная проводница, проверив билет и смерив Эдуарда презрительным взглядом, махнула рукой внутрь вагона.
Первое, что увидел Эдуард, войдя в купе, была молодая женщина, которая, держа одной рукой повисшую на её спине белокурую девчушку, другой пыталась затолкнуть на верхнюю полку тяжёлый чемодан.
– Позвольте, помогу... – вызвался Эдуард.
– Спасибо, а то я уже намучилась с ним.
Девочка, оседлавшая маму, была явно не из стеснительных. Она плюхнулась на нижнюю полку и, пыхтя от усердия, начала расшнуровывать новенькие кеды. Одолев крепко затянутые узлы, она спустила ноги вниз и стала трясти ими, чтобы освободиться от обуви. Левая кеда сидела прочно и сбрасываться совсем не хотела. Правая оказалась сговорчивее и с размаху угодила в живот севшего напротив Эдуарда.
– Машка! – грозно одёрнула ребёнка мать.
– Пустяки. Всё нормально.
– Ради бога, извините... Она такая разбойница у меня. Ни на минуту оставить нельзя. Что-нибудь да и натворит.
– Дети есть дети, – снисходительно улыбнулся Эдуард, и ему вдруг сделалось грустно.
Ведь у него никогда не было детей. Основная биологическая миссия любого живого существа – оставить после себя потомство – была с треском провалена. Он отчётливо понял, что когда уйдёт из этой жизни, не будет никого, в ком бы он продолжался. Уйдёт, так и не сказав этому миру ровным счётом ничего.
«Пустая, бессмысленная точка в пространстве, – думал Эдуард. – Очень... очень жаль потерянного времени, прожитых лет, которых не вернуть. Я бы многое исправил, я бы сделал всё не так, я бы... Да что теперь жалеть о прошлом, в котором царит лишь разруха? Нужно смотреть вперёд и строить будущее. Может быть... Вряд ли, конечно, но, чёрт возьми, а что если попытаться устроиться на работу, найти женщину, создать семью? Хотя бы остаток жизни прожить как человек. Исправить хотя бы то, что в моих силах».
Последние мысли придали надежду.
Лицо женщины расплылось в признательной улыбке. Она отвернулась и присела, чтобы помочь расшалившейся девочке разуться, пока она не угодила дяденьке второй кедой по лбу.
Под поездом что-то зашипело, и по вагону разнёсся тягучий заунывный голос, который известил отъезжающих о том, что поезд отправляется, и попросил провожающих выйти из вагона.
Поезд вздрогнул и плавно стал набирать ход. Женщина полезла в свои сумки, а Эдуард, раскрыв купленную на вокзале газету, углубился в чтение. Бегло пробежав взглядом по пахнущим типографской краской страницам, он нашёл интересующую его колонку местных новостей. Короткая заметка гласила: «Взрыв частного дома в Серебряном Бору унёс жизнь генерала Михаила Ивановича Валова. Охрана, дежурившая у дома, не пострадала. Оперативники склоняются к версии об утечке газа. Также были сведения о будто бы звучавших выстрелах, которые в дальнейшем не нашли своего подтверждения. Ведётся следствие».
Эдуард усмехнулся:
– Утечка газа. Ну, конечно!
Женщина обернулась на звук его голоса:
– Что, простите?
– Да так... Мысли вслух.
– А, понятно, – ответила попутчица, доставая из сумки продукты и по-женски аккуратно накрывая на стол. – Отдыхать едете?
– Да, вот... Решил поехать развеяться, – отводя взгляд, соврал Эдуард.
– А багаж ваш где? – всё не унималась женщина.
– А я налегке.
– Хорошо вам – мужикам... – нарезая ароматный помидор, продолжила соседка. – Натянули штаны и готовы. А попробуй-ка с ребёнком куда-нибудь съезди. Тем более с такой негодяйкой, как моя.
И тут же, словно в подтверждение её словам, девочка облила себя клюквенным морсом.
– Вот, убедились? – всплеснула руками женщина. – Прямо тридцать три несчастья, а не ребёнок.
– А папа ваш где? Без него едете отдыхать?
– Нет у нас папы и никогда не было! – отвернувшись к ребёнку, вполголоса ответила женщина, да так, что сразу стало ясно, что разговор на эту тему закрыт.
Эдуарду стало стыдно за неудобное положение, в которое невольно поставил спутницу. Ну в самом деле – две минуты знакомы, а уже лезет в личную жизнь.
– Простите, ради бога... Я не хотел лезть к вам...
– Нет, это вы простите. Просто я в последнее время на нервах. Что-то мы заболтались совсем. Давайте, подсаживайтесь поближе к столу.
Эдуард хотел было из вежливости отказаться, но аппетитный вид котлет, сыра и блинчиков заставил отбросить излишнюю скромность. После плотного ужина тихой речкой потёк разговор, плавно огибая берега житейских тем. Алёна, так звали попутчицу, оказалась приятной собеседницей. Её нельзя была назвать красавицей, но складная фигура, по-детски веснушчатый нос и большие, излучающие ласку и доброту, серые глаза придавали ей особое очарование. Так в пустых беседах о том о сём день стал клониться к вечеру. За окном красный закат красил поля в цвет молодого вина. Длинные тени от высоких лип пролитыми чернилами тянулись по земле и исчезали в оврагах. Эдуард засмотрелся на облака. Они, будто розовые комочки сахарной ваты, медленно таяли в наступающих сумерках.
В купе приглушили свет. Девочка, вдоволь набаловавшись, уже вовсю сопела, укрытая мягким одеялом. Алена, устроившись поудобней, раскрыла книгу, но уже минут через пять её сморил сон. Книга, выскользнув из рук женщины, упала прямо под ноги Эдуарда. Подняв книгу, он, ради интереса, раскрыл её ближе к концу и стал читать первый попавшийся абзац:
«Работал я когда-то на одной киностудии, и понадобились нам для съёмок лошади. Командировали нас, тогда ещё молодых сотрудников, на один конезавод, коих в те времена по союзу было раскидано очень много. После долгих споров выбрали мы девять прекрасных кобыл. И вот пришёл день, когда мы должны были увезти их и погрузить в заранее приготовленный вагон. Когда мы выводили наш табун, вдруг послышалось громкое ржание, услышав которое, все девять кобыл тут же остановились как вкопанные. Молодой жеребец, высунув голову через прутья окошка, возбуждённо мотал головой и издавал душераздирающий вопль. Со слов заводчиков выяснилось, что этот дымчатого цвета красавец был единственным самцом во всём хозяйстве, и, так как оплодотворение на заводе происходило искусственным путём, его к кобылам не подпускали и нужен он был лишь для того, чтобы своим ржанием держать самок в тонусе. Когда мы увидели его, стало понятно, что он просто необходим нам для нашего фильма. Красивый, высокий, с волнистой гривой и гордым станом, он украсил бы собой любой кадр. После долгих уговоров, вернув трёх кобыл и приплатив сверху, нам всё-таки удалось выкупить жеребца. Загнали мы всех наших лошадей в вагон и пошли отмечать удачную сделку. Кто ж тогда знал?! Когда на первой же станции я пошёл проведать подопечных, передо мной открылась страшная картина: наш красавец-жеребец, высунув язык, лежал мёртвый, а вокруг него столпились очень счастливые кобылы с застывшим в глазах блаженством и печалью. Был громкий скандал. За этого героя, павшего на любовном фронте, мы потом все получили взыскание, а его цена ещё долго удерживалась с нашей зарплаты».
Эдуард захлопнул книгу и, прежде чем отложить её, прочитал название - «Холодное солнце тёплой зимы».
Стук колёс стал замедляться, и вскоре состав притормозил у небольшой станции. Через минуту сонный вагон вздрогнул от басовитого женского голоса. Голос, громко причитая и сыпля проклятиями, медленно двигался по коридору. Перебудив весь вагон, голос замолк у двери купе, где находился Эдуард. Эдуард напрягся в тревожном ожидании. Ручка неприятно заелозила, и дверь с размаху открылась, чуть не слетев с петель.
– Представляете, опоздала! Еле догнала! Таксист, прохиндей, три шкуры сорвал, чтоб довезти, – оглушил всех зычный голос женщины лет пятидесяти. – Ну-ка, сынок, уступи бабке место. Ох и умаялась я. Ну, чего сидишь? Полезай, полезай наверх. Не мне же на верхотуре куковать.
С этого момента Эдуард и все его попутчики, включая проводниц, стали считать каждую минуту пути, чтобы поскорей добраться до места назначения.
Глава пятая
ФОКУС
Густая листва дендрария дарила живительную прохладу. Эдуард медленно брёл по тенистому тротуару мимо разноцветных отдыхающих. До назначенной на пять часов вечера встречи с Денисовым оставалось ещё десять минут, когда зазвонил сотовый телефон.
– Эдуард Владимирович? – послышался скрипучий голос бывшего заведующего.
– Да, слушаю.
– Эдуард Владимирович, я дико извиняюсь, но у меня чрезвычайное положение и оно сейчас катается по земле и хочет в цирк.
– Я не очень вас понимаю, Евгений Борисович.
– Да внучок мой, – засмеялся заведующий. – Дочка оставила на меня ребёнка и убежала по делам. А этот пострелёныш сейчас тащит меня в цирк. Давайте сделаем так: подходите к цирку, он тут рядом с парком. После представления встретимся около выхода.
– Хорошо, я подойду.
– Ну вот и славненько.
Сразу за проспектом возвышалось круглое, похожее на женскую шляпу строение. В сердце Эдуарда при виде цирка что-то неприятно всколыхнулось. Воспоминания, мучившие его с того момента, как он ступил на раскалённый жарким солнцем сочинский асфальт, с новой силой захлестнули душу. Судя по гремящей изнутри музыке, представление уже шло полным ходом. Потоптавшись перед входом и от нечего делать изучив афиши, Эдуард, чтобы убить время, купил билет и вошёл в шумный, освещённый разноцветными прожекторами зал. Несмотря на вечер, зрителей было не так уж и много, так что Эдуард сел на первое попавшееся место рядом с ареной.
Тем временем на сцене разворачивалось представление, никак не вяжущееся со словами «...достойное лучших арен мира», написанных на плакате у входа. Унылых клоунов, один из которых был изрядно пьян, сменили неопытные жонглёры, у которых постоянно всё валилось из рук. За ними появились акробаты, которые, попрыгав на батуте, решили, что публике хватит и этого, и уступили место гимнастке, которая чуть не сломала себе шею. Вся надежда оставалась на фокусника, но и тот, перепутав ассистенток и коробки, в которых те сидели, нечаянно выдал секрет фокуса. Публика жевала и сурово молчала.
Эдуард, сто раз пожалевший потраченных денег, уже хотел уйти, когда на арену рысью выбежали златовласые лошади. Они вихрем пронеслись по кругу, притягивая восхищённые взгляды публики. Свет прожектора выхватил под куполом связанную девушку в маске, которую медленно спускали на верёвке. Оркестр тут же заиграл тревожную музыку, предвещавшую лихо закрученный сюжет. Луч скользнул вверх и осветил злодея, который начал перерезать канат, на котором висела девушка. Ещё мгновение – и она, со связанными руками и ногами, упадёт с пятиметровой высоты, но в этот момент на сцене появляется лихой наездник в костюме Зорро. Ловко оседлав пробегающую лошадь, он успевает поймать ассистентку, которая падает ему в объятия. Публика неистово рукоплещет. Но злой похититель не желает просто так отдавать пленницу и, готовя новые козни, спускает с верхотуры большой горящий обруч. Наездник, с любимой в руках, направляет лошадь на пылающий обруч и под общий вздох зала лошадь делает прыжок через огонь. Мгновение спустя они – целые и невредимые – посылают воздушные поцелуи аплодирующей публике. Гремит торжественная музыка, под которую герои снимают маски и оказываются… Лилией и Павлом.
Поднявшийся в едином порыве со зрителями Эдуард так и застыл с занесёнными для аплодисментов руками. Потрясение, которое он испытывал, отняло у него способность думать, слышать, говорить, даже дышать. В странном оцепенении он лишь провожал диким взглядом уходящих в сторону кулис артистов. Когда те скрылись за тяжёлыми драпированными занавесями, к Эдуарду наконец-то пришла способность двигаться. Не отдавая себе отчёта в действиях, он прямо через арену пошёл за ними. Пройдя за кулисы, Эдуард заметил перед собой дрессировщика тигров, который, наклонившись к клетке, пытался открыть застрявший засов. Ещё три шага вперёд, и Эдуард, обняв дрессировщика, покатился по грязному полу.
– Глаза разуй, кретин! Куда прёшь? – вставая с пола, зло выпалил повелитель тигров.
– Извините, – буркнул Эдуард.
– Эй, ты кто вообще? Сюда нельзя.
Но Эдуард этого уже не слышал. Он спешно уходил в глубь подсобных помещений, крепко сжимая в кармане револьвер, который и заставил Эдуарда сделать пируэт с дрессировщиком. Вонь, исходящая из клеток с животными, отрезвляла, как нашатырь. В голове, будто вспышки молнии, появлялись и исчезали мысли, ни за одну из которых невозможно было ухватиться. Обескураженный, совершенно сбитый с толку Эдуард, заглядывая в каждую гримёрку, пробирался между цирковым реквизитом, в сотый раз задавая себе вопрос: «Как это может быть?!», на что тут же упрямо отвечал: «Этого не может быть никогда!». Но он видел их! Видел ЕЁ, ту, о которой скорбил долгие годы. Воскреснув с того света, они, словно ураган, разметали всё то, что Эдуард так тщательно пытался забыть, запереть внутри, разложить по полочкам памяти, закрыть к ним дверь и потерять ключи.
Оставалась маленькая надежда на то, что он обознался, которая, впрочем, была безжалостно раздавлена широкой спиной Павла, стоящего у загонов с лошадьми. Эдуард, чуть дыша, с дрожащим в руке револьвером, смотрел на Павла и не мог поверить своим глазам. Душа кипела злостью, как вот-вот готовый взорваться миллионами тонн пепла вулканический кратер.
– Публика сегодня была так себе. Еле смогли растормошить, да, Костя? – донёсся вдруг женский голос из дальнего угла.
У Эдуарда закружилась голова. Он помнил этот голос. Родной, смешливый, любимый голосок, который перестал для него звучать целую вечность тому назад, но продолжавший почти каждую ночь будить его во сне. Она ничуть не изменилась: та же точёная, словно у фарфоровой статуэтки фигура, те же большие смоляные глаза и копна чёрных волос на нежном плече.
– Я тысячу раз тебе говорил – не называй меня так!
– Да ладно, расслабься. Здесь же никого не... – женский голос, не договорив фразу, сорвался на крик.
Павел резко обернулся и увидел Эдуарда, который держа в вытянутой руке пистолет, чуть пошатываясь на подкашивающихся ногах, стоял у входа в конюшню. Их разделяло всего несколько метров пространства и пятнадцать лет выброшенной на свалку жизни.
– Эдик?! – сглотнув, прошептал Павел.
– Вы... Вы же, чёрт возьми, мертвы! – как сумасшедший заорал Эдуард.
Павел медленно попятился назад.
– Я же убил вас! Как это может быть, что вы живы?
– Успокойся, Эдик, я сейчас всё объясню, – взволнованно ответил Павел.
– Что ты мне объяснишь? Что? Ты объяснишь мне, почему я отмотал пятнадцать лет срока за ваше убийство?
– Слушай, я не знал… Правда не знал…
– А ты, Лилия? Что ты мне будешь объяснять?
Лилия молчала. В её широко распахнутых глазах читался животный ужас.
– Пятнадцать лет я оплакивал твою смерть. Пятнадцать бесконечно долгих лет я мучился, корил себя за то, что убил женщину, которую любил больше жизни. И знаешь? Я привык к мысли, что тебя больше нет. Ты для меня мертва, понятно? Так что если я сейчас нажму на курок, ничего не изменится.
Павел попытался незаметно дотянуться до лежащего на табуретке хлыста.
Эдуард перевёл прицел на Павла.
– Что вообще произошло в ту ночь?
– Эдик, успокойся…
– Говори!
Эдуард подошёл ближе. В его горящих сумасшествием глазах читалась решимость.
– Для чего всё это нужно было?
– Чтобы ты нас не искал.
– Но зачем? Вы бы могли просто уйти, убежать. Я бы никогда не нашёл вас. Миллионы жён уходят от мужей к любовникам.
Взгляд Павла переменился. Он перестал обращать внимание на пляшущий перед носом ствол револьвера и посмотрел в глаза Эдуарду. Его голос стал развязным и издевательским.
– Да, но только у единиц из них есть красивые, дорогие лошади. Увести чужую жену – это не преступление, а вот за кражу чужих лошадей могут и посадить. Так совпало, что я одним выстрелом убил двух зайцев. Бедный Эдичка! Тебе просто немножко не повезло в этой жизни. Я всегда ненавидел таких, как ты, богатых ублюдков. Театры, шампанское и разговоры об искусстве... интеллигенты хреновы. Вы никогда не думали о том, что будут кушать ваши дети завтра. Угнать лошадей было бы слишком просто. Аппетит приходит во время еды. Я мечтал лишить тебя всего! Ты слышишь? Всего, что так легко тебе доставалось, а мне приходилось зубами вырывать у жизни, у таких как ты! Я хотел ткнуть тебя мордой в дерьмо, показать, как живут там, внизу, куда твой взгляд никогда не упадёт, потому что нос уж слишком вздёрнут кверху. Ты всегда был таким наивным, Эдик. Клянусь, меня даже иногда мучила совесть из-за тебя.
– Но, но... там были трупы. Чьи они? Что, мать вашу, произошло?
– Хочешь узнать? Хорошо, я расскажу тебе... Я хотел провернуть всё после Нового года, но в тот вечер всё сложилось так, что медлить было нельзя...
30 декабря 1987 года
– Милый? Ты же говорил, что будешь поздно. Что с тобой случилось? Почему ты в таком виде?
– Не твоё дело. Почему ты лежишь голая?
– Потому что я только что искупалась. Что, теперь я не могу в собственном доме полежать голая?
Эдуард, разглядывая комнату, подошёл к кровати. Из шкафа за спиной некстати появившегося мужа, держа в одной руке ботинок, а в другой одежду, выскользнул голый Павел и, словно ртуть, просочился в оставленную полуоткрытой входную дверь. Добежав до лестницы, Павел оделся и, спрятавшись в подсобке, стал ждать. Из спальни доносились громкие голоса ругани. Через некоторое время послышались шаги, и Павел увидел Эдуарда, который, быстро спустившись по лестнице, вышел из дома. Бросившись к телефону, Павел набрал номер.
– Ждите в условленном месте. Да, прямо сейчас. Потом объясню.
Положив трубку, он пошел в комнату на втором этаже, где на полу сидела Лилия и, размазывая по лицу сопли, тихо скулила.
– Нужно бежать. Сегодня.
– Сегодня? – шмыгнула опухшим носом Лилия. – Но ты же говорил, что после праздников.
– Я передумал. Именно сегодня.
– Но куда? На улице метель! Даже дороги не видно! Да и потом, он всё равно будет искать нас.
– Ты меня любишь?
– Да! Но…
– Выбирай: или мы будем вместе, или этот урод забьёт тебя до смерти!
– Я с тобой, – после секундного колебания решилась Лилия и бросилась в объятия любовника.
– Сейчас не время. Бежим.
– Дай хоть одеться.
– Нет, нельзя. Я дам тебе что-нибудь из своего.
– Ты с ума сошёл. Я же совсем голая.
– Нет времени объяснять.
Павел схватил упирающуюся Лилию и потащил вниз.
– Быстрее, быстрее... – подгонял Павел Лилию, когда та, съёжившись от холода, голая бежала по колючему, обжигающему ноги снегу.
Когда они оказались в домике, Павел обнял и прижал к себе дрожащую девушку.
– Прости, но так было нужно.
– Я совсем замёрзла, любимый. Согрей меня, – плача и отбивая каждый слог зубами, сказала Лилия.
Павел сильней прижал к себе девушку и осыпал её холодное лицо и волосы поцелуями.
– Послушай, мне нужно будет сделать кое-что, что тебя может испугать. Поэтому я прошу тебя, оденься, можешь выбрать всё, что тебе подойдёт из шкафа, и подожди меня рядом с лошадьми. В комнату не заходи, что бы ни произошло. Хорошо?
Лилия замотала головой.
– Нет, не оставляй меня. Мне страшно.
– Я ещё не ухожу. Пока слишком рано.
– Что ты придумал?
– Скоро узнаешь.
В этот момент в окно что-то ударилось, после чего за стеной послышался громкий грохот.
– Там кто-то есть!
Павел подошёл к окну. За стеклом, кроме сплошной пелены снега, ничего не было видно.
– Наверное, ветер. Ну ладно, иди поищи что-нибудь в шкафу. Оденься теплее.
– А ты что?
– Мне нужно подготовиться. Я сейчас вернусь.
Вернувшись в дом, Павел, стараясь не оставлять следов, открыл сейф и, достав ружьё, отнёс его в свою комнату.
– Ну вот, осталось только подождать. Пока слишком рано. Навряд ли твой муженёк вернётся в ближайшие три-четыре часа.
Наручные часы показывали уже двенадцать часов ночи, когда Павел, поцеловав на прощание Лилию, вышел за ворота.
На пороге бушевало. Крупные белые хлопья, словно сойдя с ума, танцевали вокруг в бешеном и беспорядочном ритме. В двух километрах от дома, при въезде в посёлок, была котельная. Павел, борясь с порывами ветра и держась неосвещённых частей дороги, побежал туда. Дорога заняла добрых сорок минут.
За котельной, в маленьком сарайчике, пристроенном прямо к зданию, прислонившись тощими спинами к тёплой стене, сидела парочка: мужчина и женщина. Их давно немытые тела издавали зловонный запах, который не мог выветрить даже морозный ветер, продувающий помещение словно сито. Давно опустившиеся, забытые всеми люди, единственной отрадой которых была бутылка спиртного, проживали здесь остатки своих потерянных жизней. Их никто не знал, не помнил и не ждал. Но сегодня был их звёздный час, потому что они должны были сыграть главную роль в трагедии, которую ставил Павел.
– А, вот вы где! – Павел поморщился от зловонного запаха. – Нужна помощь. Ставлю пол-литра…
В домике было тихо. Павел оглядел комнату в поисках Лилии. Убедившись, что её нет, он обратился к помощникам:
– Проходите, ребята. Вон там, в углу, вёдра. Нужно их вынести.
Войдя последним в комнату, Павел нащупал за книжным шкафом холодную двухстволку...
...Сидеть в тёмной, холодной конюшне рядом с всхрапывающими лошадьми было очень страшно. Павла не было уже полтора часа, и Лилия начала беспокоиться. В голову полезли всякие нехорошие мысли о том, что её бросили, что зря она согласилась на эту авантюру с побегом, что жить бы ей припеваючи пусть с нелюбимым мужем, но хотя бы так, как она всегда мечтала: в большом доме, со шкафами, набитыми красивой одеждой, и собственной машиной. Судьба, наконец-то услышав её молитвы, в награду за все выпавшие на её долю страдания преподнесла подарок, от которого она теперь по своей глупости отказывалась.
Родившись в цыганской семье, она с детства познала все тяготы бедности и с ранних лет была вынуждена выступать вместе с отцом на потеху публике ради нескольких брошенных в шляпу монет. Когда ей было всего пять лет, её мать попала под поезд, а спустя полгода ручной медведь загрыз отца. Маленькую сиротку подобрала другая цыганская семья, где вместе с пятью братьями она и росла, промышляя мелкими кражами и попрошайничеством. С годами, когда девочка из гадкого утёнка превратилась в ослепительную красавицу, ей отвели роль приманки для богатых мужчин. Те, только завидев жгучую брюнетку с очаровательной улыбкой, как мотыльки слетались к её ногам, сразу становясь жертвами коварного вымогательства. Угрожая немедленной расправой за поруганную честь сестры, братья отнимали у жертвы всю наличность и драгоценности, при этом оставляя Лилии какие-то крохи от всего награбленного.
Лилия вспомнила тот день, когда они вместе с Эдуардом проснулись в номере гостиницы. Прекрасно сыграв роль обиженной девушки, она вознамеривалась сперва выменять свою обиду на какой-нибудь дорогой подарок, а потом уже сдать Эдуарда своим братьям. Лилия прекрасно знала, что Эдуард будет её искать, и собиралась сама, предварительно помучив горе-любовника, вечером дать себя отыскать. Но в тот день случилось непредвиденное: за кражу ювелирных украшений был арестован один из братьев Лилии. На семейном совете было решено, что Лилия должна взять на себя вину, тем самым отгородив брата от верной тюрьмы. Сидеть за решёткой девушке совершенно не хотелось, поэтому она категорически отказалась. Семья, не терпящая неповиновения, жестоко избила девушку и предложила выбор: или в милицию, или на тот свет. И в этот тяжёлый для Лилии момент, жизнь, наконец-то заметив её, сделала реверанс в виде наивного влюблённого Эдуарда. Вцепившись своими нежными пальчиками мёртвой хваткой в Эдуарда, Лилия уже не ослабляла хватки.
Да этого момента…
Казавшаяся невинным баловством интрижка с Павлом со временем в душе девушки переросла в большую, искреннюю любовь. Любовь настолько сильную, на которую только могло быть способно трепетное цыганское сердце. Она с наслаждением сгорала в любовном огне, сжигала в пылающих языках стыд и гордость, искала и находила моменты отдаваться любимому мужчине. Забыв про свою мечту, она теперь видела своё счастье только в Павле. И теперь, сидя в тёмной конюшне, Лилия корила себя за минутную слабость, из-за которой в её голове посмели родиться предательские мысли. Она сильней запахнулась в телогрейку, которую нашла у Павла в шкафу, и дала себе слово ждать. Её любимый мужчина, её герой, сказал ждать здесь, и скорее она умрёт, чем сдвинется хоть на метр.
За стеной скрипнула дверь и послышался голос Павла. Лилия обрадовалась и хотела было уже войти в комнату, как один за другим, разрезая завывающий в щелях ветер, раздалось два выстрела. Лилия так и осталась стоять на месте, держась за дверную ручку. От громких звуков выстрелов проснулись лошади и начали беспокойно бить копытами. В этот момент дверь дёрнулась и в конюшню зашёл Павел.
– С тобой всё в порядке? – спросил он, спешно седлая лошадей.
– Я... я не знаю... Что это были за выстрелы? – начиная приходить в себя, спросила Лилия.
– Да, так... Ружьё проверял.
Он смерил взглядом дрожащую не то от холода, не то от волнения девушку, и его взгляд вдруг задержался на её груди.
– Милая, а вот с этим тебе придётся расстаться.
С этими словами он нащупал на шее у девушки золотой кулон с изумрудом и аккуратно снял его.
– Что ты делаешь? Это моё!
– Ничего, родная... Я куплю тебе лучше.
– Но...
– Садись на лошадь, я сейчас приду.
В комнате в луже бурой крови лежали два трупа. Их лица были обезображены прямым попаданием в упор из ружья. На глаз понять, какой из этих трупов принадлежал женщине, сразу было невозможно. Годы беспробудного пьянства и нечеловеческого существования напрочь стёрли все признаки гендерной принадлежности. Только борясь с тошнотой и спустив у одного трупа штаны, Павел понял, что перед ним лежит женщина. Нацепив на её труп кулончик, Павел, чуть подумав, снял с руки любимые часы и бросил рядом с другим трупом. Обернувшись, он встретился взглядом с зашедшей в комнату Лилией. Та, белая как полотно, закрыв ладонью рот, смотрела на происходящее.
– Я же просил не заходить сюда! – рассердился Павел.
– Ты убил их…
– Послушай... У меня не оставалось выбора. Нужно заметать следы, – попытался оправдаться Павел, схватив приготовленную канистру и начав разливать по полу бензин.
– Нас же теперь посадят.
– Не нас, а его.
– Но зачем? Можно было ведь просто убежать.
– Долго объяснять. Просто доверься мне, – с этими словами Павел увлёк Лилию в конюшню и посадил на лошадь.
– Тебе не холодно?
Лилия не ответила.
– Ну, ничего... Сейчас всем станет горячо.
Павел чиркнул спичкой и бросил её на пол. Весёлое пламя, запрыгав на ветру, тут же побежало по дорожке через открытые двери, выходящие через конюшню в дом. Старый деревянный флигель, щедро политый горючим, вспыхнул, словно комочек ваты. Зарево пожара долго виднелось за спинами всадников, которые, спрятавшись от чужих глаз за плотной драпировкой метели, рысцой направлялись к реке. На противоположном берегу, рядом со старой церквушкой, их уже поджидал грузовик с высокими, прикрытыми тентом бортами, на которых синими буквами было выведено слово «Васход».
Глава шестая
ПРАВОСУДИЕ
Всё произошло очень быстро. Эдуард лишь заметил молниеносный взмах хлыстом, услышал свист у уха и сразу же почувствовал обжигающую боль по всему лицу. Падая, Эдуард успел нажать на курок. Раздался выстрел, и на пол они уже падали вместе: Эдуард с рассечённым лицом и Павел с простреленным коленом.
Оглушённый ударом, Эдуард открыл глаза, которые тут же залило кровью. Сквозь струи липкой крови он заметил выпавший из рук пистолет, лежавший в метре от него. Эдуард тут же метнулся к нему, но нежная женская ручка успела к оружию первой. Подхватив револьвер, Лилия навела его на истекающего кровью Эдуарда.
– Ты цел? – не сводя глаз с Эдуарда, обратилась она к Павлу.
– Ерунда, зацепило немного, – простонал тот. – Убей эту тварь.
Лилия колебалась.
– Ну, скорее! Чего ты ждёшь? – прикрикнул Павел.
Она в последний раз взглянула на бывшего мужа, зажмурилась и нажала на курок. Выстрел опрокинул Эдуарда на пол, где он и остался лежать в растекающейся лужице крови. Рядом с недвижным телом дымился брошенный револьвер.
– Боже, я его убила... убила... – как заведённая повторяла Лилия, пытаясь унять сильную дрожь в руках.
– Ты не виновата, малыш. Он бы пристрелил нас. Помоги мне встать.
– Что мне теперь делать? Что? Меня поймают и засадят за решётку.
– Не истери! – повысил тон Павел. – Чёрт, помоги же мне подняться.
Лилия протянула руку Павлу и помогла ему встать. Они стояли, обнимая друг друга, и по лицу Лилии, словно летний дождь, текли крупные капли слёз.
– Послушай, всё будет хорошо. Мы избавимся от тела, так что никто ни о чём не узнает.
– Обещаешь? – с мольбой во взгляде спросила Лилия.
– Обещаю! – ответил Павел и нежно прильнул к её дрожащим губам.
С арены донеслась нарастающая барабанная дробь...
Новых хлопок выстрела в клочья разорвал нежную сцену. Пуля, пробив затылок девушки, прошла сквозь череп Павла, навечно скрепив горячим свинцом любовный поцелуй. Не разжимая жарких объятий, пара рухнула в душистое сено. За ними стоял раненый в ключицу Эдуард с вытянутым в руке револьвером.
Арена взорвалась бурными овациями...
***
Усталое вечернее солнце окрашивало город в бронзово-золотой цвет. Тёплыми ладошками солнечных зайчиков оно играло на шелестящей листве деревьев и по-детски рисовало закорючки теней в зелёной траве парков. Накалившиеся от полуденной жары тротуары щедро делились теплом с остывающим воздухом.
По улице, держась за раненое плечо и тяжело передвигая ноги, шёл мужчина. Его окровавленное лицо пересекала страшная рана. Оставляя за собой на земле красные капли, он, не замечая испуганных взглядов прохожих, бесцельно шёл сам не зная куда. Пустой взгляд не излучал ни одной эмоции. Физической боли он не ощущал, нет, её заглушала тупая, всеохватывающая, оглушающая внутренняя боль, которая колючими оковами сдавливала сердце. И казалось, не было спасения от этого мучения. В какой бы закоулок своей души он ни посмотрел, какое бы воспоминание ни постарался оживить в памяти, везде видел только дуло пистолета, направленное Лилией в его сторону. Обида, безысходность, отчаяние, злоба, раскаяние... Всё сейчас в нём бушевало, как в штормовом море, в котором он тонул без надежды на спасение. Всё было уже неважно, всё подходило к логическому концу. Окинув свою жизнь взглядом зрителя, он увидел лишь проваленный спектакль, в котором у него сначала была роль доброго ангела, а в финале – убийцы.
Оживлённая автомобильная трасса как нельзя кстати подходила на роль опускающихся кулис. Взглянув на жёлтую точку, которая на большой скорости приближалась к нему, Эдуард, выбрав момент, вздохнул полной грудью и сделал два шага вперёд. Послышался резкий визг тормозов, и тело, подброшенное мощным ударом, перекатившись через капот, бездыханно упало на обочину. Рядом, испачканный бурыми пятнами крови, стоял «Мустанг». На его радиаторной решётке поблёскивала бегущая лошадь.